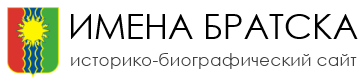КАРТЫ НА СТОЛ. Книга стихов (автор: Василий ОРОЧОН (КИСЕЛЕВ) - ИМЕНА БРАТСКА
КАРТЫ НА СТОЛ. Книга стихов (автор: Василий ОРОЧОН (КИСЕЛЕВ)
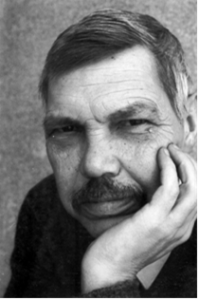
ОРОЧОН (КИСЕЛЕВ) ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
КАРТЫ НА СТОЛ
Надоели медитации у себя и у других..
Наша поэзия расплывается в них, как
Сад в тумане. В медитациях часто камуф-
лируется отсутствие мыслей, чувств и
темперамента. Хочется потребовать, чтобы
поэты выложили карты на стол. Сюжет –
это карты на стол.
Давид Самойлов
ПОВЕСТЬ В СТИХАХ
Сентиментальный сентябрь
Где-то в середине сентября
тополей заблещут эполеты.
Двери потихоньку отворя,
выйду на свиданье с бабьим летом,
в ночь шагну, как первый в жизни раз,
буду тихий, чуточку печальный.
Ну. а город будет просто рад,
в суете меня не замечая.
Будет бабье лето колдовать
рыженькой певуньей Лорелеей.
Лягу на скамейке ночевать
на центральной парковой аллее.
Скажет милиционер: «Нельзя
нарушать общественный порядок,« —
и посмотрит пристально в глаза,
приумолкнет и присядет рядом.
И вздохнет о чем-нибудь таком
небывалом или позабытом.
Поделюсь с ним крепким табаком,
в гильзу сигаретную забитым.
Бабье лето снова запоет,
ворожа, колдуя и пророча;
тихо милиционер уйдет,
пожелав сердечно доброй ночи.
Удивляясь и едва дыша,
и едва переставляя ноги,
будет слушать, как щемит душа
от чего-то близкого, родного.
Дома выпьет водки ледяной,
закусив холодною котлетой,
Вот какая это будет ночь,
вот какое будет бабье лето!
Изыскатели
Разверзлись хляби небесные,
стала болотом суша.
Радио бесполезное
мы по утрам не слушаем –
опять объявят синоптики:
«Солнце в Крыму, в Молдавии…» —
а тут заливает оптику,
тучи на плечи давят.
Остановилась работа –
погода нужна, погода! –
со вторника по субботу
живем во власти потопа.
И, не сильны в теологии,
молитву творим короткую:
— Господи, чтоб тебе лопнуть
вместе с Ильей пророком!
…Вряд ли Господу в уши
попали наши проклятия,
но над озябшей сушею
встало Его Сиятельство.
…Броню свитеров и курток
сбросили с облегчением
и, отменив перекуры,
вкалываем, как черти,-
темпы невероятные!
А солнце ярое, яркое, —
уже, как лошади, в мыле,
оно же палит несносно:
горим на работе!
В смысле
буквальном и переносном.
Снег
Засыпает палатку снег.
Засыпает опять Колыма.
В дальнем городе, где нас нет,
в дом вернется из школы мать,
Глянет в ящик почтовый – пуст,
лишь газетки местной листок,
и тетрадок тонких стопу
ближе к лампе положит на стол.
В доме тихо и пусто сейчас.
Даже чай невкусен одной.
Мать на карте найдет Сеймчан
в том краю, что зовут Колымой –
там на смену дождям косым
заспешил и засыпал снег,
там бродяжит по сопкам сын.
А вестей от него все нет.
Пусть не скоро он прилетит,
верен зову своих дорог,
знать бы только: он жив-здоров,
и ее не забыл в пути.
Мать тетради проверит. Уснет.
И привидится ей во сне:
белый-белый,
стирает снег
ожидания серый счет.
Возвращение
Я вступаю в мой город.
На шее – ковбойский платочек,
бахилы мои разбиты,
ватники cтерты в сеть,
Прохожие –
кто усмехнется, кто откровенно хохочет,
а я
домой возвращаюсь –
я улыбаюсь всем.
Шествую, как триумфатор,
бравирую диким видом:
условия полевые –
экстравагантности суть.
Пускай недоумевает тот,
кто тайги не видел,
кто за городом, на прогулке только –
бывал в лесу.
Я домой возвращаюсь,
устав от тайги и мата,
усталость прячу подальше,
как хлам на чердак суют,
Дома, в родные ладони,
тихо выдохну: «мама…»
Беспомощно-маленьким стану,
забыв про взрослость свою.
В конце сезона
Керосинка, словно лампада
перед ликом Софи Лорен.
Никакого уюта не надо,
кроме этих бревенчатых стен,
никаких не надо кумиров,
кроме крали этой цветной…
Зимовье на окраине мира,
окруженное тишиной,,,
Где-то там, далеко-далеко,
листопад шуршит поутру,
журавлиный прощальный клекот
навевает легкую грусть.
Где-то там, далеко-далече
лета бабьего легкий смех…
Ну, а здесь ложится на плечи
неожиданно-зимний снег,
ну, а здесь, вповалку на нарах,
вдохновенно храпя и сопя,
не отшельники, не гусары –
просто люди усталые спят.
Завтра – десять часов работы –
в речке горной, в снегу, в поту…
Эх бы нам бы ваши заботы –
лета бабьего маету!..
Мы вернемся. Мы погусарим –
щегольнуть в год раз не грешно
бородищами и усами
и тугой таежной мошной.
Будут песни и сантименты,
будет праздник выпит до дна,
будут девочки и студенты
втихаря завидовать нам.
Только как бы не проговориться,
как в предутренний сизый час
беззащитны небритые лица
у – таких героических! – нас,
как, путями неисповедимыми,
в наш суровый таежный мир,
к нам во сне приходят любимые,
итальянку напрочь затмив.
Старательский этюд
В краю джеклондонских рассказов,
где дирижируют ветра
угрюмым хором перекатов,
где летом ходят в свитерах,
где люди ищут и находят
золотоносные ручьи,
где обжигающий нас холод
любить буржуйки приучил,
где мужики живут без женщин,
судьбу и быт перекроив,
они без горечи, без желчи,
нечасто говорят про них.
Зато хохочут часто, словно
стараясь смехом заглушить,
запрятать за соленым словом
любую ссадину души.
Ну что же, здесь – передовая.
А что касается двоих,
о том молчим, не предавая
воспоминания свои.
За этот занавес – спасибо,
но от себя попробуй, скрой,
что письма, стертые на сгибах,
дороже золота порой.
Потрогай старые конверты,
в молчаньи рядом покури,
Когда вернемся – откровенно
и о любви поговорим.
Напутствие
«…Рассчитался.
Ну что ж, старик,
доставай парадный костюм свой,
возвращайся на материк,
отдохни ладом, побезумствуй,-
в белокаменной погуляй,
закати банкетик в «Арагви»,
разоврись о колымском крае,
о километровых рублях.
А потом махни на юга,
подлечи свои ревматизмы,
позабудь о летних снегах
и о жизненном катаклизме.
Как планировал ты, как мечтал
к нареченной вернуться с помпой!..
Не дается даром металл –
ты на собственной шкуре понял.
Ну да шибко не переживай –
может, к лучшему, что так вышло…
А надумаешь – приезжай,
денег мы на дорогу вышлем…»
Раскрутка
Бухты Незамеченной не найти на карте нам,
трасса знаменитая к ней не допылит:
там живут старатели, там дымят старатеельно
мотоботы старые, а не корабли.
Возле пирса черного в «шхуне» скособоченной
рыбаков, старателей, всех, кто забредет,
ждет хмельное зелие, ждет любовь убогая
и отдохновение от земных забот.
Зазвенят монетами по привычке русской и
матами и песнями души освежат,
позабудут трудности, позабудут грусть свою
и совсем с ума сведут залетных салажат.
Будут байки старые и разборки новые,
будут карты жирные шлепаться о стол,
будет снова души рвать песня про конвойного,
и табачный дым висеть, едкий и густой.
В море рыбаки уйдут, к золоту – старатели.
В бухте Незамеченной на краю земли,
в «шхуне» скособоченной, как останки праздника,
по полу растянутся длинные рубли,
Не по Блоку
Улыбаясь сквозь слоистую завесу
дыма сигаретного и музыки,
я играю ресторанного повесу,
ты играешь взбалмошную музу.
Мы играем. Мы бездарные актеры.
Режиссеры – ресторан и строчки Блока.
Мы играем эту пьесу, от которой
нам с тобой – ни хорошо, ни плохо.
А на улице – метелица и наледь,
пес озябший пробирается сторонкой.
Поломаю неожиданно сценарий –
обниму тебя, как младшую сестренку.
Ты поймешь. Освобождаясь от тумана,
станет взгляд твой и доверчивей и глубже.
Ты расскажешь запросто о маме,
и о парне, что на флоте служит.
Снег над нами – словно занавес протертый,
да и полночь подвизается в суфлерах.
Только мы с тобой, сестренка, не актеры.
Понимаешь, слава богу, — не актеры.
Холодно
В коридоре грызутся собаки,
на дворе завывает январь.
Сыпани, не жалея, заварки,
ставь на старенький стол самовар
и, пожалуйста, лампу – в угоду
мне – к окну, что ледок заволок:
может, кто и в такую погоду
вдруг заглянет на огонек,
А быть может, не нужен и третий.
Чаю крепкого я напьюсь,
затянусь своей сигаретой
и негромко тебе спою,
Ты прислушайся к песне странной,
подпевая мне наугад:
«Снятся людям не жаркие страны,
а бескрайних сопок снега.
Снится людям не позолота
беспечально-праздничных дней,
а работа, дневные заботы,
и вздыхают люди во сне.
Снится людям не речка детства,
а ручьев перемерзший звон.
От себя никуда не деться,
даже в самый глубокий сон…»
Потому обижайся не очень,
что, когда подкрадется ночь,
пожелаю спокойной ночи
и уйду, не колеблясь, прочь.
Потому-то, что близок локоть,
не тонуть мне в твоих глазах.
Нам с тобою вместе неплохо,
только вместе нам быть нельзя –
слишком разные песни поем мы,
слишком разные видим сны…
…Позакупорив все проемы,
ждет поселок неблизкой весны.
Попытка к бегству
В поезд сесть. И долго ехать
без определенной цели,
на восток или на запад –
бесконечно безразлично.
Вспоминая,. как спросонку,
год минувший, день вчерашний,
на перронах покупая
пиво, курево, газеты,
Быть довольным тем, что полка
снова верхняя досталась,
что еще послушно тело
на нее легко взлетает,
что вызванивают стыки
сотни песен по заказу,
что мелькают полустанки,
как прохожие в час пик.
И дремать, и просыпаться,
и в окно глазеть, как мальчик,
расставаясь и знакомясь
так легко и так бездумно,
угощать соседей пивом,
слушать россказни вполуха
и писать, не удивляясь,
сумасшедшие стихи.
…Оборвать на полуслове
разогнавшуюся строчку,
с нетерпеньем ожидая
первой станции огни,
и купить билет обратный,
и на бланке телеграфном
нацарапать, задыхаясь:
«Буду третьего. Встречай…»
Рассказ
Семь дней томила духота.
Но, наконец, загрохотал
своим заржавленным ведром
в колодце неба первый гром,
и в пересохший рот земли
живые струи потекли,
нет, хлынули. Дымясь, земля
в себя их жадно вобрала,
но непрерывно, как года,
текла, текла, текла вода,
и скрылась под водой земля.
Водовороты на углах
помолодевших вдруг домов,
дорожках парков и садов
окурки, фантики влекли
и неприятности несли
кроссовкам, туфлям, башмакам.
А гром старался, не смолкал,
и дебоширила вода.
Бежали люди – кто куда
от неуемности воды,
как от чумы, как от беды.
Сменился ночью долгий день.
Неслись по вспененной воде
троллейбусы, как глиссера,
толпа брала их на ура,
гремела мелочью у касс…
Здесь начинается рассказ.
У разворотного кольца
водитель, этот бог и царь,
«Конечная!» — провозгласил
и двери в ночь и в дождь открыл.
Вода укрыла вся и всех:
незлую ругань, вопли, смех,
плащи, накидки и зонты,
и вот – людей и след простыл.
И лишь какой-то пассажир
ни временем не дорожил,
ни сухостью своих одежд –
он вслед троллейбусу глядел,
и был вопрос в его глазах:
идти вперед или назад?
Дождь сдерживать себя не мог,
а человек давно промок;
пошел, совсем не торопясь,
ступая в темень, в лужи, в грязь.
Никто нигде не ждал гостей.
В садах, в заборах, в темноте
поселок в полночь уплывал.
Фонарь с натугой освещал
цветущих яблонь карнавал;
молчали сотни псов цепных
(актированный день у них).
А дождь все душу изливал.
Его прозрачные слова
весомы были и свежи,
в них не было ни капли лжи,
но грустен был рассказ его,
как сага друга моего,
но неконкретней и сильней,
как строчки, что придут во сне,
а утром – не припомнить их…
Но проза здесь ломает стих и повествует о том, что человек снова остановился, поднял голову, вбирая в себя запах цветения и свежести, смешно шевеля губами – не то сдувал воду, бегущую по лицу, не то молился. А может, он заучивал наизусть эти строчки дождя, трогая их пальцами, как слепой?
А что за строчками дождя –
чего он ждал, чего не ждал? –
дороги дальней полотно,
мотивчик песенки блатной,
удачи легкое вино,
чей вкус забыт давным-давно,
упругий парус над волной,
невыразимое Оно?..
Нет, просто дом.
Сквозь ставни свет.
Дом, где его сегодня нет,
и быть не может никогда,
А с неба нижется вода,
сверкающая, как топор,
тяжелая, как приговор.
А свет мерцает в поздний час.
И здесь кончается рассказ.
И. если он неясен вам,
сдержите резкие слова
и перечтите, подождя,
по Брайлю сотню строк дождя.
Хлопок дверью
Виршей моих эскадра
бесславно идет на дно
под моцартовы аккорды,
исполненные водой
на переборках трюмных.
Великолепный миг!
Я – флагман.
На палубах трупы
убитых строчек моих.
Живые дерутся в шлюпках,
мечутся, как плотва.
Валяйте, жалкие шлюхи,
отрекаюсь от вас!
Час наступает судный.
Мне ли ломать комедь –
последним оставив судно,
высаживаться на мель?
Есть ведь жуткая радость:
люк в погребок открыть.
С порохом черным рядом
трубочку докурить…
Каждый сполна заплатит,
сколько бы ни финтил.
Да не каждого хватит
в бочку сунуть фитиль!
Условно павший
За мной лежат мои товарищи,
с надеждой смотрят на меня,
а я гляжу на поливающий
струей красивого огня,
на задыхающийся, лающий
в бетонной будке пулемет.
За мной лежат мои товарищи.
Он им подняться не дает.
В пороховницах нету пороху,
точнее, — пуст последний диск,
я распатронил его попусту,
покуда прыгало в груди,
таким огромным сразу ставшее,
вдруг зашалившее, мое,
пока вопил на мокрой пашне я
не то «ура!» не то «даешь!»
Пока швырялся взрывпакетами,
других стараясь обогнать,
вдруг оказалось: нечем – этому –
на лай собачий отвечать.
И вот уже, божась мамашею,
кричит посредник в мегафон,
и машут мне условно павшие:
кури, брат, кончен марафон,
Сгруппировался я, Мгновение –
я б кинулся и победил!
Посредник оценил движение
и вежливо предупредил,
что на учениях тактических
(так-перетак!). имей в виду,
за сей поступок героический
дадут семь суток гауптической –
Звезду Героя – не дадут.
И. сетуя на все условности,
я встал из грязи в полный рост,
жалея, что не удалось внести
в победу вклад.
Не удалось,
хоть рвал я глотку в гонке чертовой,
хоть первым вышел к рубежу…
…А что не имут сраму мертвые,
я б не сказал.
И не скажу.
Письмо
Сяду, как старый и мудрый сказитель,
и заведу, безо всяких причин:
«Вечер, Палатка, охрипший транзистор –
скрипка да флейта, — огарок свечи…»
Знала ли ты это тихое счастье,
душу вот так доводилось лечить –
добрым сверчком запевающий чайник,
скрипка да флейта, пламя свечи?
В суетный век старомодны печали,
словно пасхальные куличи,
но, не спросясь, благодать посещает –
скрипка да флейта, пламя свечи.
В черные дни, что вороны вещают,
душу с отчаяньем не обручить,
ведь защищают ее, освящают
скрипка да флейта, пламя свечи.
Тихою ноткой свой сказ увенчаю,
в памяти ей уголок отыщи:
пусть твою душу и жизнь освещают
скрипка да флейта, пламя свечи.
*
ЭЛЕГИИ
1.
Хороша в саду была крапива!
Вам такая даже не приснится.
Кто сказал, что это некрасиво –
голой задницей в нее садиться?
Кто сказал, что стыдно шмыгать носом
и пулять по окнам из рогатки?
Эти безответные вопросы –
вроде исторической загадки.
В книжках воевали древнегреки,
Ева все жевала плод запретный;
в чайных продавались чебуреки.
Но вопросы были безответны!
Жизнь текла. Она была прекрасна –
хорошо у нас живется детям! –
только вот вопросы их напрасны –
им никто на свете не ответит.
Я печально сдую пену с пива,
выкурю восьмую папиросу.
Хороша в саду была крапива!
Все проходит.
Больше нет вопросов.
2
Забот прибавляет времечко:
в зеркало загляни –
падают волосы с темечка,
словно в прошлое – дни.
Вспомню былую беспечность –
волком хочется выть –
падают годы в вечность,
как волосы с головы.
3
Видимо, в юности не до дна
выпил апрели я да маи.
Ах, седина моя, седина!
Ребра мои, ох, ребра мои!
Сверстники станут желать добра,
критикой справедливой громить
и в заключение скажут: «Дурак!…»
Ребра мои, ох, ребра мои!
Сердце не хочет знать ничего –
рвется навстречу новой любви,
да не пускает на волю его
чертова клетка – ребра мои!
4
Любил я соленые штучки:
капустку, огурчик, грибок.
Дошли мои почки до ручки.
Коварна любовь, голубок!
5
Фонари горят от страсти,
им плевать, что не весна.
Я кричал прохожим: «Здрассьте!» —
вот и вся моя вина.
Удивлялись, удивлялись –
постепенно стали бить:
видно, слишком наглотались
горячительной злобы.
Я лежу, как сыр на блюде,
Загипсованный, в бреду:
пожелал здоровья людям
в наступающем году!
6
По бульвару ходит дождь,
по карману бродит грош –
загляни в карман, приятель, —
ничего там не найдешь.
Хоть очки в карман положь, —
ежели отбросить ложь, —
на пути твоем негладком
слишком много гадких рож.
Надевай свой макинтош,
ибо завтра будет то ж.
Непечатным тихим словом
путь печальный подытожь.
НАД КЛАССИКАМИ
*
Когда прощаются враги
И возвращаются долги
твои — тобой,
перед тобой, безглаз, курнос,
встает веселенький вопрос:
быть иль не быть?
И. если все же быть, то как?
А этот скалится, дурак,
ему-то что:
он бел и чист от всех грехов,
от потрясений, потрохов,
от перспектив.
Я – Гамлет. Холодеет кровь.*
Мой век ничтожен, но суров
к таким, как я,
и я за то убит страной,
что подавал пример дурной
таким, как вы
*
Солдат – на то он и солдат,
чтобы принять без дрожи
и славы гром, и стали град,
и груз наград, и все же –
пускай вернется он домой
не стар, не искалечен,
и не обманут пусть его
мечтания о встрече.
Чтоб праздник в отчий дом вошел
танцующей походкой,
пускай уставлен будет стол
закусками и водкой.
И пусть солдат поцеловать
свою подругу сможет,
и пусть дрожит ее кровать
и пол, и стены тоже.
Пусть до победного конца
дрожит солдат бессчетно, —
единственная – для бойца –
такая – дрожь почетна!
*
Бревна ворочать, ворочать бревна –
и недоходно, и безысходно.
Ах, дорогая Анна Петровна,
что-то муторно мне, что-то холодно.
Что-то мне нынче вовсе не хочется
нуждами жить производства древесного
и кукарекать дежурным кочетом
о преимуществах строя советского.
Анна Петровна, мгновение – было
чудным и грустно-неповторимым,
но в ожиданьи иссохли чернила –
за смену мы даже не покурили.
Анна Петровна, ты невоспетой
так и останешься, канешь в Лету,
ибо у твоего поэта
просто-напросто времени нету.
Пенистым пивом кружку наполню,
дабы унять гудящие вены.
Анна Петровна, мгновение – помню.
Чудное это было мгновенье.
*
Попробуем дожить до сорока
и научиться простенькому делу:
беречь свое стареющее тело
и реже оставаться в дураках.
Благая мысль изящна и легка.
Что в Дездемоне отыскал Отелло?
Что дожевская доченька хотела
от негра, иностранца, старика?
Их крайностти – совсем не по душе.
Но кто-то ближний подленько хохочет,
и пальцы к шее тянутся уже
и комкают батистовый платочек,
и земляничка ежится слегка…
Не выйдет – дотянуть до сорока.
*
Идут дожди – от Кушки до Чукотки,
от Бреста до Совгавани – дожди.
Листай, листай листы метеосводки
и просветленья понапрасну жди.
Сквозь радиопомехи – хриплый шепот,
как свой среди бесчисленных врагов:
«Когда вода всемирного потопа
вернулась вновь в границы берегов…»
Когда вода всемирного потопа
вернется вновь в границы берегов,
и, во вдовство не веря, Пенелопа
избавится от наглых женихов,
когда пройдет сквозь испытанья вера,
и сбудутся впервые, наконец,
прозрения незрячего Гомера,
и в полный голос запоет певец,
тогда в ненастном, ненавистном мраке,
тяжелом, словно високосный год,
забрезжат все же берега Итаки,
и утомленный парус упадет.
*
Шибко медленно мелет Емеля,
шибко тусклою стала блесна.
Постелилась восьмая неделя
затяжного осеннего сна –
ни уму он, ни сердцу, ни в руку.
Ржа торжественно точит блесну.
И сорвалась замшелая щука,
нехорошим словечком плеснув.
И свистят над Россией метели,
рвут усталое тело бичи.
Сладко-сладко зевает Емеля
на холодном сугробе печи.
*
Гвардейскую доблесть поступков
и правды высокой слова
морозным дыханьем остудит
Дракон о семи головах.
Застынут и время, и люди,
и, как святотатцев на суд,
сердца самых лучших на блюде
на завтрак Дракону снесут.
И будут бессонно, бесстыже
в холодных скорлупах домов
задачу «хоть как-то, но выжить»
решать миллионы умов.
…Вот стал скакуном жеребенок,
вот меч не ржавеет, лучась,
вот вырос боец из пеленок
и ждет предназначенный час, —
на подвиг и смерть обреченный,
он ринется жизнь защищать.
И люди вздохнут облегченно.
И блюдо пойдут начищать.
*
разобьем бокалы в застолье,
улыбнемся на месте лобном
царь сидит на златом престоле
ему холодно и неудобно
злится он и над златом чахнет
одиноко ему и дико
а у нас веселая чаша
краснопенная кровь брусники
ах как пенится и мерцает
душу трогает терпкой лаской
царь готов отдать хоть полцарства
хоть все царство
мы несогласны
*
БАЙКИ
История средних веков
Я твердил, что я буду бессмертным,
буду юным на тысячи лет.
И придурком считал меня местным
положительный сытый сосед.
Он ко мне заходил по-соседски
и советом меня угощал,
замечая заботливо, дескать,
«ты, алхимик, совсем отощал.
Лучше б в жены ты взял Доротею
и катался, как в масле бы сыр.
Безнадежная, братец, затея –
вечной молодости эликсир.
Это все менестрельские бредни,
как любовь, соловьи да луна.
Стал до срока ты нервным и бледным,
убелила тебя седина;
посмотри на меня: я не беден,
и с почтеньем глядят на меня
и коллеги мои, и соседи,
и моя молодая жена,
по субботам хожу я к обедне
и по пятницам ем каплуна.
Я шатался от недоеданья
на пределе рассудка и сил,
знал отчаянье, знал и страданье,
но нашел, черт возьми, эликсир!
Я извлек его не из металла.
Обнимая меня и смеясь,
по ночам мне соседка шептала:
«Будешь юн, пока любишь меня!»
Утопая в распущенных прядях
ее русой душистой косы
пил от смерти я противоядье –
вечной молодости эликсир.
Был сосед мой весьма озадачен,
настороженно взглядом косил:
«Что-то весел блажной неудачник,
будто вправду нашел эликсир».
И, приняв поросятинки дозу,
брюхо дрябнущее оглядел:
«Эх, старею! А тот студиозус
впрямь, как будто бы, помолодел.
Ишь, как радостно скалится, жулик,
ишь, цветет, будто сад по весне!
А моя молодая женулька
его имя шептала во сне…
А поскольку быть юными вечно
христианам отнюдь не дано,
я, по совести, должен, конечно,
в инквизицию сделать донос…»
Опустив ожиревшие веки,
он плешивой качал головой:
«Да, забота о человеке
в нашем обществе – прежде всего…»
Полегчало ему, паразиту,
когда, тыча в чернила перо,
бил по почкам меня инквизитор,
учиняя с пристрастьем допрос.
Площадь казни моей и позора
вся была ротозеев полна.
И над прахом моим беспризорным
зарыдала чужая жена.
На сие непотребное дело
зрел сосед, возмущенно дыша;
молодой и влюбленной летела
над тупою толпою душа.
Все смотрел он сквозь щелочку в ставне
на жену, на кострище, на дым,
И смекал, что помог мне остаться
на века, навсегда молодым.
*
О вечном мальчике
и палаче-филантропе
Шел вечный мальчишка по городу
и весело нес на плечах
свою виноватую голову
под острый топор палача.
Палач в кумачовой рубахе,
как русские могут, сказал:
«А может, ты вмажешь от страху,
пока я топор не поднял?»
Но мальчик, хоть ростом был с пальчик,
ответил: «Не пью по утрам.
Оставим спиртное, палачик,
скорей перейдем к топорам!».
Свершилось кровавое дело
по-трезвому, как нам ни жаль:
душа к небесам полетела,
а мальчик остался лежать.
Но мальчик был все-таки вечным –
он жив. С горя помер палач.
А был он таким человечным –
хоть от умиленья заплачь.
Про то, как я собрался за границу,
и что из этого вышло
Порешил я съездить за границу,
посмотреть потусторонний свет.
Я узнал, куда мне обратиться,
обратился, Мне сказали: «Нет.
У тебя есть пятна в биографии,
трудовая тоже нечиста,
можешь на крючок попасться мафии,
можешь злостным диссидентом стать.
Ты изучен до последней точки –
от макушки до прямой кишки.
Мненье есть: морально неустойчив –
слишком любишь водку и стишки».
Я кричал, что я насквозь советский,
но булыжником в мой огород
бухнули, что у моей соседки
мнение – совсем наоборот.
Мол, готов я завтра наше светлое
променять на жительство в Перу.
Был сигнал, аналогичный этому,
от моих собратьев по перу.
Ох, с обиды впору удавиться,
но мне сказали в спину у дверей:
«Можете поехать за границу,
за границу области своей».
Вечером я передумал злиться,
размышляя над своим питьем:
«А на кой мне черт та заграница
с антидемократией ее?
И чегой-то я куда-то дергаюсь?
Где, в какой проявят капстране
братья по перу, коллеги, органы
дружную заботу обо мне?
Так что, закордонная дорога,
ты другому скатертью ложись.
Я и дома повидаю многое –
удивляться хватит на всю жизнь.
*
Вольная трактовка
«Правил хорошего тона»
…А если ты не в настроеньи,
повесь губу свою на гвоздь:
сегодня в доме день рожденья,
и ты не кто-нибудь, а гость.
Не суй соседу в рюмку палец,
не суй селедку в декольте,
и, если сам вегетарьянец,
оставь остроты о коте.
Не делай гадости хозяйке,
не выноси из дому сор
и не играй на балалайке
сонату си-бемоль мажор.
А если станет слишком худо,
и станет хмель одолевать,
не бей хозяйскую посуду
и не кричи, что дочка – блядь –
и без тебя все это знают.
Спрячь справочку свою, что псих.
Пока тебя здесь уважают,
ты уважать умей других.
А не сумеешь – как угодно –
накличешь сорок тысяч бед:
придут все те, кто был сегодня,
на день рождения к тебе.
*
Математический этюд
Не слюбились, не сдружилися,
величины не сложилися,
минусом в душе отметинка –
вот такая арифметика.
Ты со мной, с тобой портрет его,
нежелательного третьего;
треугольная симметрия –
вот такая геометрия.
Посчитаю день-другой еще,
знаком «плюс» поставлю крест большой
да пошлю к такой-то матери
рас-с-такую математтику!
Исповедь дворника Федора,
которая устроила ЖЭК
— Нынче я опять в глубоком трансе,
нынче наша жисть мне не мила:
с перебоями работал транспорт,
и не мела любимая метла.
Я с ней распрощался, как с любовью –
нынче мне общественность не жаль, —
и, слегка поспорив сам с собою,
я себя послал куда-то вдаль.
А вдали живут совсем неплохо,
а вдали все лучше, чем у нас.
В этом обвиняю я эпоху
и родной, но не рабочий класс.
…И опять очнулся я на нарах,
и карьеру загубил свою.
Не снесу я этого удара
и опять, наверное, запью.
…Колочусь с глубокого похмелья
и прошу в последнем слове я:
люди, если вы не озверели,
дайте, ради бога, три рубля!
*
Повесть о коне
Белый конь с султаном белым
по арене резво бегал
невесомую циркачку
на спине своей носил.
Что ж, работа неплохая,
и наездница лихая –
конь, гордясь такою ношей,
глаз свой огненный косил.
Ах, циркачка, ах пушинка!
Распрямлялась, как пружинка,
тело гибкое бросала
в пламя медных обручей.
Бегал белый конь по кругу,
обожал свою подругу
и гордился, между прочим,
что была она – ничьей.
У залетного гусара –
ментик, усики, гитара,
он циркачке полбазара
алых роз сбросал к ногам.
Ах, шампанское, романсы,
комплименты, реверансы,
ну а дальше – проза жизни:
стала девушка – мадам.
Правда, свадьба – честь по чести,
и в приданое невесте
подарил владелец цирка
дорогого жеребца.
Офицер в отставку вышел,
наплодил толпу детишек…
А чего вы ожидали
от такого молодца?
Белый конь стоял в конюшне.
Жизнь была простой и скучной –
ни султана, ни оркестра,
ни подруги, ни цветов…
Располневшая хозяйка
запрягает в таратайку
(но и это униженье
белый конь снести готов).
Ах, эпоха Ренессанса! –
уцелела лишь в романсах
да в романах безыскусных,
да в преданиях молвы,
а в сильнейшей половине
нету рыцарей в помине,
и прекрасным дамам служат
только кони да ослы.
Конь служил. Не за кормежку.
И, хотя тужил немножко,
но прекрасную хозяйку
он, как прежде, обожал.
Беззаветно, безответно
ей служил зимой и летом:
если скажет, — плелся шагом,
если нужно, то бежал.
Бедный, белый, бескорыстный!
Как его пугали крысы,
как дрожал он тонкой кожей
в духоте и темноте!
Все терпел, со всем смирялся.
Но хозяин проигрался
раз на станции почтовой
на семнадцатой версте.
Всю наличность, все именье
проиграл без сожаленья,
пистолеты от Лепажа
и десяток крепостных,
заложить хотел медали…
Тут ему поблажку дали:
за коня семь тысяч ставил
и остался при своих.
Вот и все.
Хозяин новый,
что на станции почтовой,
дорогого, циркового
вдруг пустил на колбасу.
А наездница былая,
о коне не вспоминая,
бьет детей, ругает мужа,
ковыряется в носу.
Вот и все.
Мораль нужна ли?
Полон скорби и печали
я свою кончаю повесть
о влюбленном скакуне.
Пусть я врал, как сивый мерин,
но финал – закономерен;
да минует участь эта
вас и в самом страшном сн
Распря
Я был как выжатый лимон –
я новых строчек миллион
перечеркнул и снова написал.
Луна шепнула мне:
«Поспи!
Ночь отдавать словам пустым –
что плакать по упавшим волосам».
Она склонилась над плечом
и повторила:
«Дурачок!
Таких, как ты, на свете – миллиард!
Ничто не ново подо мной,
играл бы лучше в домино,
или, уж в крайнем случае, в бильярд».
Она была глупа, глупа!
Четвертый час уже упал
на занесенном снегом берегу,
а я бросал с размаху в печь
упрямую прямую речь,
но я Луне – ни слова, ни гу-гу.
И, наконец, она сдалась:
«Ты про меня черкнул бы, Вась…» —
и льстиво заглянула мне в глаза,
но я: с тобой не до возни!
Я должен, слышишь, черт возьми,
о новом дне по-новому сказать!»
*
РАССКАЗЫ
Бунтарь (монолог)
— Что, братие, вы вопите истошно,
пошто в монастыре переполох?
Постом, молитвами и бдением всенощным
я усмирял бунтующую плоть,
но сбросил с тела ржавые вериги,
впускаю в келью солнце и тепло.
Врата монастыря мне отворите,
а иначе махну через заплот!
Что б ты, вся моя братия, ни пела,
я – не участник в ханжеской игре.
Ужель Господь дарует жизнь и тело,
чтоб их сгноить в сыром монастыре?
Я не святой – я грешный, грубый, русский,
я жив и молод, сил – не занимать…
Эй, девка, посмотри на эти руки –
они умеют крепко обнимать!
Они умеют и пахать, и сеять,
косить и жать, и много кой-чего.
Кинь эту монастырскую Расею –
она не лучше жизни кочевой.
Остер мой нож, а ум – еще острей,
айда со мной за Каму и за Камень –
там вольный люд зовут сибиряками,
ему нет дела до монастырей.
В той стороне, привольной, не убогой,
сполна познаем радость и беду…
Накажет Бог? А я плюю на Бога!
Дрожишь? Не смеешь? Что ж, один пойду!
В пути сберу отважную ватагу,
что не боится адского огня…
(Удар колом. Еще один, с потягом…)
Эх, девка, помолися за меня…
Славяне
Он зарылся лицом в лошадиную гриву
и свалился в кавыль, потеряв стремена.
А по полю плескали последние взрывы,
а по Польше все дальше катилась война.
Я его развалил – до ремней от погона –
и склонился над ним, придержав жеребца.
А по полю клубками катилась погоня,
и, казалось, погоне не будет конца.
Я узнал из бумаг, что он был мой ровесник,
парень, кровью своей опаливший траву;
маму звали Ядвигой, Марылей – невесту,
а кохану мою Марусенькой зовут.
Уходила на запад кентавров лавина,
и, заметив меня, окликал военком.
А душа разрывалась на две половины,
в горле горечь похмелья стояла комком.
Я был прав.
Я был прав!
Я был прав бесконечно,
как права революция наша, страна.
Только в памяти – болью тот бой скоротечный,
и как падал поляк, потеряв стремена.
Легенда
Был старатель угрюм и вынослив,
хоть сдирай с него семьдесят шкур.
Все, что было и будет с ним после,
отгонял от себя, как мошку.
Ковш, лоток да песок бесконечный –
с половодья и до белых мух…
Но удача, кузнечик беспечный,
прискакала однажды к нему:
в мелководье привычного брода,
словно искус последний уму,
возлежал золотой самородок,
улыбаясь призывно ему.
Он погладил усталой ладонью
этот вечный старательский миф,
распрямился над мутной водою,
самокруткой тугой задымив.
А потом в зимовьюшке над кручей,
под которой бурчал перекат,
пил он спирт, что на экстренный случай
много-много недель сберегал.
А наутро, такой же угрюмый,
паутину сомнений сметя,
он собрал свой нехитрый инструмент
и подался в другие места.
А в ручье, что отзванивал годы
и у брода песок намывал,
улыбаясь, лежал самородок.
Нержавеющий. Тусклый. Металл.
Сорванный урок
Весна ворвалась на Восток мгновенно,
взяв сопок барьер ребристый,
и по вскрытой Амура вене
льдины шли вереницей.
А в классе шел урок геометрии,
довлели синусы, косинусы,
и мы внимали строгому мэтру –
Андрей Андреичу Костину.
Костин манипулировал с «пи»,
сосредоточен и хмур,
но кто-то, в класс заглянув, завопил:
Лед идет по Амуру!
Гранату б кинул – эффекта меньше:
мы в мгновение ока
повскакали, как очумевшие,
и столпились у окон –
ледоход! – удержишься разве
от радости суматошной?
А Костин не пресекал безобразия –
тоже смотрел в окошко.
Через минуту, как по сигналу
(вздрогнула школа бедная),
наша орава уже сигала
через заборы к берегу.
Шли косяком кетовым льдины,
с хрустом ломаясь сахарным.
Мы прыгали им на хрупкие спины –
девчонки вслед только ахали,
а мы, преисполненные гусарства,
в азартном самозабвении,
готовы были – хоть до Татарского –
на льдинах плыть по течению.
Так бы и мчались, рассудку не внемля,
но неумолимо нас
вернул со льдин и с небес на землю
Костина ржавый бас.
Долго Костин ворчал, как чревовещатель,
но не хотелось – ей-богу! –
даже ему из весны возвращаться
к сорванному уроку…
Страшная (неоконченная) история
Может быть, все, что хотел, что имел я сказать,
сказано мной – остается глухое молчанье;
двор постоялый души опустел, опустела казна,
ветер в разбитых воротах свистит беспечально.
Старый кабатчик за стойкой считает грехи –
нечего больше считать – ничего не осталось,
и понапрасну надрывно орут петухи –
некого нынче будить на дворе постоялом.
Нехотя дождь прибивает дорожную пыль,
куры кудахчут и яйца несут с постоянством завидным.
Хоть бы разбойник ворвался, погром учинил, завопил,
крови остатки пуская бочонкам рассохшимся винным…
Серый рассвет обещает безрадостный день –
скучный, спокойный – спокойнее, чем на погосте…
Вдруг на пороге встает и колеблется тень –
гостья! Нежданная, поздняя, юная гостья.
Входит – от радости пляшет огонь на дровах;
гостья глядит на меня с ожиданьем тревожным.
Молча смотрю на огонь, подбираю слова,
припоминаю слова, от которых отвык безнадежно.
Только мерцание глаз, волхованье огня;
я же все так же мучительно нем и ничтожен.
Может быть, гостья сожжет этот двор, заодно и меня –
что же, молчание – так ли, иначе – она уничтожит.
Сон о Франсуа Вийоне
До отправленья дилижанса
осталось ровно пять минут.
Жаль – рифмоплетов-дилетантов
в средневековье не берут.
Вот колокольчик затрезвонит,
рванутся кони сгоряча…
Позвольте, сударь, ах, позвольте
в средневековье, хоть на час!
Там дамы – профилем – камеи,
и, хоть мужья у них грубы,
их обожатели умеют
красиво гибнуть и любить;
там все еще в чести отвага,
бесчестье – высшая из мер,
верховный суд – стальная шпага,
а слово чести – документ.
Упряжкой правит кучер строгий
(наверное, с похмелья он).
Вот повстречался на дороге
поэт и висельник Вийон.
Он ловко вспрыгнул на запятки, —
хоть с головы до ног в пыли,
не путешествует за плату
тот, кто уходит от петли.
Вот он гнилые зубы скалит,
вступая в разговор со мной:
— В каких романах отыскали
вы эти прелести, друг мой?
В каких балладах усмотрели
бред этот, честно говоря, —
в продажных песнях менестрелей
иль в сочинениях дворян?
Дворянам, да – пиры, турниры,
а нам — сума или тюрьма.
Молчат растоптанные лиры
средь человечьего дерьма.
Тут с бедняка дерут три шкуры,
здесь дамы моются в год раз,
а их амуры, шуры-муры…
Жаль, я по-русски не горазд!..
Вы пьете утром сладкий кофе,
не натощак ложитесь спать,
мечтая о средневековье.
В мою бы шкуру вам попасть!
Ведь если с голоду, бывает,
я в церкви украду свечу,
меня в темницу запирают,
бросают в лапы палачу.
Мои стихи – на стенках камер,
им площадь Гревская – цена.
Не вам невинными руками
такие трогать письмена –
они писались грязью, кровью,
в ваш век дойти им – не дано…
Вот вам мое средневековье!
Ну, как вам нравится оно?..
Исповедальный снег
1
Шел снег четыре дня подряд,
переиначив все кругом.
Так, на исходе декабря,
шел новый снег, как Новый год.
Я вас не стану утомлять
повествованием о том,
какой красавицей земля
в наряде стала пуховом –
о том любой из вас найдет
в любых стихах про Новый год.
Я просто расскажу о том,
как мы сидели с ней вдвоем
на старой даче, без огней.
Топилась печка, падал снег.
Полешки песенку свою
для нас мурлыкали в тиши.
Нам было некуда спешить,
нас убаюкивал уют,
весь мир был полон тишиной,
в полуослепшее окно,
сквозь снег, луны кошачий глаз
глядел на тихих-тихих нас.
Сосед, общения ища,
покой вселенский возмущал:
снега тропинку замели,
и, как в тумане корабли,
без шапки, от снежинок сед,
гудел подвыпивший сосед,
Вошел он, запах снега внес
и, отряхнувшись, словно пес,
поздравил, поблагодарил,
сел у порога, закурил
и неожиданно спросил:
— Хотите, милые мои,
я расскажу вам о любви?
А нам хватало нас одних.
Подумалось: «Вот пьяный псих!»-
я сделал отрицанья жест.
Но он рассказывал уже.
2
— Значит, так, дорогие мои,
значит так:
не звенели любви соловьи
ни черта!
Да и не было соловьев
в тех местах,
где большая книга –Любовь –
начата.
А страницы ее – листать
да латать,
и от соли потерь она
солона.
Вы сейчас от счастья глупы,
но, сосед,
потерять, потом полюбить –
хуже нет…
3
…А ведь было очень здорово:
шли в тайге, к плечу плечо,
молодые и задорные –
все нам было нипочем –
комарья свирепось наглая,
болота и ручейки,
нерастаявшие наледи,
непрощенные грехи…
Были счастливы. И шибко.
Да всему ведь есть предел.
И легла в судьбе ошибка,
как крутой водораздел.
…Возвратить любой ценою,
душу черту сторговать!..
«Не растет трава зимою»-
что там долго толковать!
4
Ты, подруга, жалостно так
не моргай.
Ты, сосед, прости простака
за мораль,
а на ус сказанье мое
намотай…
Жалко – не было соловьев
в тех местах!..
5
В великолепие зимы
ушел сосед. Молчали мы.
В печи звенели угольки.
Стучал в усталые виски
сомнения недобрый снег,
и мы придвинулись тесней,
но что-то в этой тишине
покоя не давало мне.
Я быстро вышел на крыльцо.
— Сосед, — окликнул я, — сосед!
Но мне насмешливо в ответ
в разгоряченное лицо
декабрь швырял последний снег.
Тянуло к печке, к тишине…
6
Сейчас, когда я говорю,
опять зима. И декабрю
нетерпеливому вослед
летит исповедальный снег…
Два письма
1. Неотправленное
«Не серчай, если почта опять не приносит
моих писем тебе и неделю, и три:
над Саянами снова бесчинствует осень –
что твои подмосковные сентябри!
Лист еще не опал – запуржило, заснежило,
и с шипеньем, шуршаньем по речке – шуга,
и ни письмам, ни мне до тебя, моя нежная,
невозможно доплыть, долететь, дошагать.
А сезон мой закончился. Жду вертолета,
и ленивые дни трудно не подгонять.
До тебя мне – всего семь часов полета,
плюс к тому – ожидание летного дня…»
2. Опоздавшее
«Еще пытаюсь верить
в тебя, тебе,
что ты – не шалый ветер
в моей судьбе.
Смешки, упреки, ругань,
но до сих пор,
наперекор подругам,
родне наперекор,
надеюсь я и верю:
в любой момент,
мятежно хлопнув дверью,
влетишь ко мне…
У глаз – морщинки горя,
у губ – тоски;
а от тебя – полгода –
ни весточки.
А я все жду…
Но, может,
нашел взамен
красивей и моложе
меня, умней?
Знобит не потому ли,
любимый мой?..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Письмо пришло в июле.
Он вытаял весной.
Сотворение легенды
На острове моем необитаемом –
ни пальмы, ни березы, ни куста –
сырой песок, седой гранит, нетающий
в распадке снег, на сопке – два креста.
Конечно, очень туго дело с топливом:
уходит уйма времени на то,
чтоб выловить в волнах обломок тополя
и думать о полезности крестов.
Когда южак особенно пронзителен,
солярой дышит печь до тошноты,
я злобно обзываю паразитами
огромные никчемные кресты.
Когда и кто поставил их – неведомо,
могилы это или створный знак?
Седые, обкогтенные медведями,
стоят они. Зачем мне больше знать?
Последний шторм четыре дня свирепствовал.
Потом прибило к берегу волной
подарок, неожиданный и редкостный, —
огромное дубовое бревно.
То утро было очень даже ласковым,
и океан астматиком сипел.
Мальчишеское, мелкохулиганское
занятие придумал я себе.
О смерти и бессмертии не думая
(хоть поводов и времени – вагон),
полмесяца тесал свой крест из дуба я,
а стружками кормил живой огонь.
…Вот, сам себе произнеся напутствие
и уподобясь рыжему Христу,
понес я крест, кряхтя и богохульствуя,
на небольшую хоть, но высоту.
На полдороге охнул: а не бросить ли?
Кому он нужен, этот мой кураж?
Ну, подивятся, скажем, люди взрослые:
какой дурак корячил крест на кряж?..-
но дотащил.
И водрузил.
Ни слова я,
мол, топлива лимит, а я – дурак.
Но три креста, огромные, суровые, —
нет, в этом что-то есть…
Да будет так!
Еще не скоро остров свой покину я,
но потчевать экзотикой готов:
поведаю любовно-детективную
легенду о Вершине Трех Крестов.
Повесть о жизни
Шел человек по улице…
Мне сейчас все равно –
каким я выгляжу:
успеть бы сказать!
Итак, человек шел по улице.
Было лето, и был юг. Одесса.
Много белого и синего.
И встретилась девушка.
Рыженькая такая. Солнечная.
Что бы вы делали на моем месте, читатель
(да о себе я говорю, о себе!)?
Что касается меня –
я встал пред нею на колени.
На пыльном тротуаре.
И преклонил главу.
Шляпу не снял – не ношу шляп.
Когда я все же насмелился
поднять взгляд,
встретил меня
такой сияющий свет,
как от маминых глаз.
Мы жили долго и счастливо.
И умерли в один день.
А теперь – простите меня:
наврал я все.
…Но вы мне верили?
Вот и я – тоже.
Биография автора: ОРОЧОН (КИСЕЛЕВ) ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Источник: ныне не существующий сайт «Бобошки и Марзаны или Записки просвещённого читателя»
Если у Вас есть дополнения и поправки или Вы хотите разместить на сайте «Имена Братска» биографии Ваших родных и близких — СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
ВНИМАНИЕ! Комментарии читателей сайта являются мнениями лиц их написавших, и могут не совпадать с мнением редакции. Редакция оставляет за собой право удалять любые комментарии с сайта или редактировать их в любой момент. Запрещено публиковать комментарии содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического характера, или нарушающие иные требования законодательства РФ. Нажатие кнопки «Оставить комментарий» означает что вы принимаете эти условия и обязуетесь их выполнять.