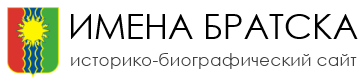РЕЙД НА ЮГ: В КИЕВЕ, У КОЗЯРСКОГО (автор: Иван Михайлович МАСЛЕНИКОВ) - ИМЕНА БРАТСКА
РЕЙД НА ЮГ: В КИЕВЕ, У КОЗЯРСКОГО (автор: Иван Михайлович МАСЛЕНИКОВ)
23 августа тихо и незаметно прошел 100-тый день рождения одного из сильнейших гидроинженеров СССР — Козярского Юрия Константиновича.
Уходит поколение тех, кто вместе с ним строили гидростанции в Иркутске и Братске, Усть-Илимске и Красноярске. Но память о нем и о строителях Советского Союза должна быть вечной. Предлагаем вашему вниманию воспоминание о Юрии Константиновиче, написанные его коллегой — Иваном Михайловичем Маслениковым, известного среди читателей как редактор и составитель очерков по истории Братскгэсстроя — «Человек и его дело».
Козярский спокойно, со скрытой улыбкой смотрел на меня с фотографии из личного дела, причем улыбка скорее угадывалась, чем проявлялась, но она определенно придавала ему ту исходную тональность, которая приглашала к диалогу.
Уверен, что для любого человека, способного хоть немного распознавать черты характера и особенности личности по лицу, эта фотография представила бы интерес, однако для меня, знавшего оригинал более 30 лет, она была почти живым собеседником, чем-то вроде гоголевского портрета – при всем различии самих персонажей…
И я не просто понимал – я ощущал, что этот диалог будет предельно ответственным, откровенным и полным, потому что Козярский был для меня в школе Братска тем человеком, который наиболее существенно – глубоко и всесторонне – повлиял на формирование моей личности и. уверен, на личности и характеры многих людей; и многочисленные почетные регалии, которыми отметило его наше общество – ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, пять медалей, семь почетных грамот, членство в Иркутском обкоме КПСС, в Братском и Дивногорском горкомах, наконец, его почетное звание заслуженного строителя РСФСР, лауреата премии Совета Министров СССР, почетного энергетика СССР и ветерана энергетики Узбекистана – все эти знаки почета, при их глубоких различиях, но несомненной сохраняющейся значимости, в конечном итоге были и останутся для меня и для многих знавших его людей лишь внешним отображением реальной роли его личности в том крупном деле, которое было совершено при его участии в Братске, и в той структуре человеческих отношений, которая сформировалась здесь вокруг него как способ свершения всего созданного им наследия.
Тихо шелестят страницы личного дела. Вот старая автобиография, написанная в 1969 году на фирменном бланке того времени, с подробной памяткой в типографском квадрате:
– Национальность…
– чем занимались родители до революции и чем занимаются в настоящее время…
– причины перехода с одной работы на другую…
– участвовал ли в боях гражданской и Отечественной войн, где, когда и в каком качестве…
– налагались ли партвзыскания – где, когда, за что и кем сняты…
– какую выполнял партийную – или общественную – работу, где, когда и в качестве кого…
– состав семьи и краткие сведения о ближних родственниках, в том числе братья-сестры, отец-мать мужа-жены…
– кто из родственников или Вы – лишались избирательных прав, подвергались репрессиям, были ли под судом или следствием, за что, когда и где…
Общество при этом, в лице соответствующих компетентных органов, не проявляло никакого интереса к способностям и творческим возможностям человека, востребовав которые, только и можно было повысить благосостояние людей, но зато оно ревниво интересовалось проблемой личной лояльности или нелояльности человека и его родственников, на глубину 40–50 лет, по отношению к сложившемуся в государстве порядку вещей и отношениям между людьми; и в подтексте этих вопросов, как сама собой разумеющаяся, утверждалась абсолютная ценность этого сложившегося десятилетиями порядка, признание которой было первоосновой в системе прочих ценностей, без которой все они, эти прочие, были обречены, как минимум, на враждебное неприятие.
Особое значение в наборе типовых данных о человеке имела его национальность, поскольку эта особенность нередко, по мнению системы, была в прямой связи с его лояльностью, а значит, заведомо и естественно предопределяла возможную ступень, выше которой его продвигать не следовало, независимо от прочих его способностей и возможностей.
…Я вновь взглянул на фотографию Козярского, и мне показалось, что его улыбка, которая ранее едва угадывалась, стала более определенной.
Благородная, овальная форма головы с высоким лбом, правильные черты лица – именно черты, проявлявшиеся в четком рисунке ноздрей, прижатой верхней губе и, волевом, чуть раздвоенном подбородке, а в самом основании лба – красивые пропорциональные глаза, хорошо сочетающие глубину взгляда с уверенным спокойствием – его лицо было вполне гармонично, слагаясь из интеллектуального, пропорционально уширенного верха и волевого основания, объединенных прямым и умным выражением глаз… Козярский явно призывал к диалогу, а я вспоминал свою недавнюю встречу с ним в Киеве, где мне приве-лось побыть у него на 70-летии, вручить традиционные наградные реквизиты от имени Братскгэсстроя – приказ, благодарственное письмо, цветной фотобуклет – рекламу Братска и Братскгэсстроя и, наконец, кофейный сервиз производства комбината «Братскжелезобетон», который обеспечил Гоголицын из своих запасов для этой цели, приняв к тому же личное участие в его оплате… Козярского в Братскгэсстрое хорошо помнили и глубоко уважали…
Октябрьский Борисполь встретил меня теплом, поздней зеленью травы и буровато-зелёными листьями декоративных кустарников. Бориса Кулю, с которым мы летели вместе из Москвы, встречал братскгэсстроевский «рафик», что лишний раз продемонстрировало средневековую мощь нашей сибирской империи, сохранявшей устойчивость в штормовой суматохе сурового времени, в грохоте образования новых государств, границу которых наш самолёт пересёк, тем не менее, незаметно и естественно.
…Улицы осеннего Киева были будничны и в меру оживленны, и внешне ничто не напоминало о переменах, происходивших в жизни людей, привычно спешивших домой после рабочего дня, однако перемены все же были.
Из окна «Рафика» я заметил группу руховцев (человек 200) с жидкими плакатиками, утверждавшими, что Украина пока «не вмерла», хотя ничто вокруг не свидетельствовало о том, что такая вероятность сколько-нибудь реальна…
…Глядя на них, я вспомнил, как десять лет назад в английском парламенте, в палате лордов, всерьез обсуждалось заявление одного из служащих о повышении оклада, выполнявшего обязанности штатного наблюдателя за возможным приближением к берегам туманного Альбиона французской эскадры – эта должность была учреждена ещё во времена наполеоновских войн и с той поры ещё ни разу не была свободной…
Благородные лорды устроили по этому поводу весьма содержа-тельные дебаты е результате которых оклад повышен не был «ввиду того, что в ближайшее время, как стало ясно, французская эскадра вряд ли представит угрозу для Англии»…
Впрочем, на Крещатике были заметны и некоторые другие пере-мены: крупный специальный кран разбирал памятник Ленину, от которого остались одни ноги; другие фигуры, стоявшие, как мне сказали, рядом с ним, к этому моменту были уже разобраны.
…В Вышгород я попал к восьми часам вечера, и Козярский встретил меня, открыв двери сразу же, после первого стука: видимо, ждал, это потом отметила его дочка – Танечка…
Стоя на пороге, он приветственно басил, улыбаясь светло-голубыми глазами, так как оставшаяся часть улыбки была скрыта в густой бороде, отпущенной пару лет тому назад, без явных признаков седины; борода вольно произрастала на всём пространстве лица, предоставленном ей для этого природой, но была аккуратно подстрижена – за этим постоянно и внимательно следила Таня.
Наблюдая время от времени, невольно и со стороны, за этой семьей, я с годами всё глубже ощущал, что отец и дочь не просто, любили друг друга и что сказать об их отношениях только эти слова – значит не сказать почти ничего…
Они молчаливо обожали друг друга, хотя и понимали, конечно, глубину пропасти, разделявшей их во всем том, что обычно именуется жизненным опытом, убеждениями, характером общения с людьми, умением формировать свои цели, соразмеряя их со своими принципами и возможностями, и твёрдо отстаивать те границы, которые позволяли сохранить себя в конкретных условиях реального бытия и, вместе с тем – добиваться поставленных целей…
…Маленькая Таня оказалась на руках у отца после смерти матери, скончавшейся от тяжелой болезни, это был год тяжелейших испытаний для Козярского, познавшего в то время, со свойственными ему детальностью, обстоятельностью и глубиной, в состоянии безысходного горя от потери любимого человека, все особенности кормления грудного младенца и ухода за ним – стояние в очереди за детским питанием, длительное держание ребёнка на руках и постепенное формирование между ними тех совершенно особых, скрытых для внешнего окружения и нерасторжимых духовных и сердечных связей, которые постепенно всё больше озаряли и другие накопленные духовные ценности, вносили все более весомый вклад в формирование решений и поступков, выпадавших на долю этого человека в его оставшейся жизни…
…Темноволосая Таня была блистательно хороша собой… Похожая на покойную мать, изображение которой мне привелось видеть лишь однажды в надгробном овале на Падунском кладбище по поводу чьих-то похорон, с лёгким румянцем на щеках, с обаятельной и быстрой улыбкой, мгновенно озарявшей детали наших разговоров с отцом, она неслышно скользила в своих джинсах между кухней и гостиной, помогая медлительной Татьяне Константиновне, верной и многолетней подруге Козярского и своей прекрасной приемной матери…
Она участвовала в общем разговоре короткими, иронично-ласковыми репликами в сторону некоторых суждений отца, обнаруживая при этом ту особую детскость и незащищенность, которые обычно уже проходят в её возрасте и, по-видимому, оказались возможными в защитном поле влияния отца на обстановку, окружавшую её в течение многих лет… Однако с годами теперь эти особенности, вероятно, начинали создавать для неё определенные и неизбежные проблемы…
Обстановку нашего общения постоянно и радостно скрашивала плотная, приземистая и крепкая такса – Тобик, или Тобби, как ее называли, а Юрий Константинович именовал своего любимого пса Тобиас. Тобик – так я начал общаться с ним, как-то естественно принял мое общество и радостно вертел толстым коротким хвостом, глядя на всех тёмными, со слезой, проникновенными глазами… Однако решающим образом он выразил свои симпатии ко мне позднее, когда я обнаружил в углу комнаты свой, галстук, который был перегрызен не спереди, а в петле, что позволило скрыть грех под воротником рубашки… Тобиас выразил тогда своеё раскаяние в содеянном усиленным верчением хвоста и явно виноватым видом.
– Что будем пить, – спросил Козярский, – водку, коньяк?– Семья уже поужинала к моменту моего прихода, однако я нуждался в ужине, перед которым торжественно зачитал и вручил Козярскому братскгэссроевские награды.
…Юрий Константинович выслушал всё стоя…
– Премию я получил сегодня, – отметил он. – И я мысленно поблагодарил бухгалтерию и Любовь Сергеевну Распутину, которая сработала столь точно, хотя традиционные размеры этой премии могли иметь для Козярского лишь символическое значение…
Особые эмоции у всей семьи вызвал кофейный сервиз, который мне удалось довезти в целости и сохранности. Козярский просил передать свою благодарность Алексею Владимировичу Гоголицыну, который сделал возможным такой подарок, заметив при этом, что он не предполагал столь тёплого внимания к себе со стороны Гоголицына и что ему вдвойне приятно убедиться в этом сегодня, через много лет, которые отделяют его от Братскгзсстроя…
Мое многолетнее общение с Козярским в период его работы в Братскгэсстрое, когда я работал под его началом, было, как правило, приятным и всегда научающим для меня, потому что свои суждения по конкретным вопросам, которые возникали между нами по работе, он подавал в более широкой транскрипции, чем это требовалось при узкопрагматическом подходе, и всегда соразмерял предлагаемые решения с более широкими и общими ценностями, которые характеризовали его богатую духовную структуру.
Нередко получалось так, что его суждения и оценки находили во мне неформальный, личностный отклик, потому что мне тоже приходилось по разному поводу думать о тех же вещах, и наши беседы в его рабочем кабинете надолго затягивались, к великому неудовольствию Тонн Серожуевой – бессменной секретарши всех руководителей Братскгэсстроя с начала строительства и до времен Закопырина. «Наконец-то появился!» – громко восклицала она при моем выходе из кабинета шефа, делая это на публику, сидящую в приемной, но Тоня была отходчива, особенно если воздействовать на неё несколько виноватым видом…
…Такая манера оценки ситуации и отработка механизма принятия решении резко отличали Козярского от других руководителей Братскгэсстроя, придавала его решениям максимальную выпуклость и рельефность, которые практически исключали различные «если» во всей цепи иерархии исполнителей…
Ведь хорошо известно, что подчиненные, особенно те из них, ко-торым почему-либо не очень хочется выполнять решение, принятое вышестоящим руководителем, проявляют большую изобретательность в изыскании причин – почему это решение нельзя выполнить. В этой связи сильнейшим компонентом в механизме принятия решений Козярский полагал лояльность по отношению к любому мнению, которое не уводило в сторону от главной темы…
Поэтому на совещаниях под его председательством всегда возникала обстановка взаимного уважения, в которой только и могла происходить неспешная, но весьма целенаправленная интеграция всех главных обстоятельств, формирующих ситуацию по обсуждаемой проблеме или сопутствующих ей; возникала глубокая и развитая концепция этой проблемы, завершающим венцом которой становилось отработанное решение…
…Вскоре после ухода Козярского на пенсию, Каган, уже будучи его преемником на должности главного инженера Братскгэсстроя, разбирая бумаги, оставшиеся от предшественника, сказал мне, что среди многих приказов и протоколов совещаний последнего времени, копии которых лежали в отдельной папке, не устарели по преимуществу лишь те, что были подписаны или утверждены Козярским.
– Далеко смотрел Юрий Константинович, – добавил Феликс Львович.
…Поудобнее усаживаясь в кресла в предвкушении длинных бесед в обществе Тобби, ещё полного возбуждением и пока не осознающего, что ему предстоит надолго успокоиться, мы с Козярским начали наши переговоры с общих тем, как это зачастую бывало у нас в Братске, тем более, что пять лет, прошедшие со времени нашей последней встречи на его 70-летии (тогда мы были в Киеве вместе с Чурсиным), были наполнены событиями многими и весьма примечательными. Говорил преимущественно Козярский, я понимал, что ему надо излиться, как это было с ним в период моих встреч с Непорожним, и не мешал своему маститому собеседнику…
– Я думаю, что стариков в нашем обществе надо быстрее отправлять на пенсию, потому что сплав опыта и энергии, в котором у нас длительное время отдавали предпочтение в пользу опыта, фактически оборачивался значительной передержкой людей весьма пожилых, от которых уже давно не было и не могло быть никаких перспективных инициатив… Хотя, конечно, возможны исключения, подтверждающие это правило…
– Возьмите Польшу – там на пенсию отправляют в 56-58 лет… Конечно, осознание этой неизбежности приходит с трудом, я знаю и помню это по себе, когда пришел в Иркутский обком партии к Банникову с заявлением об уходе на пенсию (Козярскому в это время шел 63-й год). Банников, выслушав меня, заметил, что «мы приветствуем, когда по таким вопросам люди обращаются сами».
– Кроме того, я полагал, что в моём положении благородно уступить свое место Кагану, который был, по-моему, на высоте в то время и явно стремился к тому, чтобы достигнуть этого поста, но мог бы и не состояться как главный инженер, не прими я в те времена свое решение…
– Я уже начал чувствовать, что не могу работать вечерами, тем более ночами, и эти нарастающие признаки возраста всё очевиднее сокращали мою пропускную способность… Всему свой срок.
– …В период моей работы начальником монтажного отдела и заместителем главного инженера Братскгэсстроя, когда шли предпусковые работы по подготовке к вводу первых агрегатов Братской ГЭС, между мной и Трахтенбергом в какой-то момент возникла молчаливая конкуренция, поскольку мы оба выступали как специалисты-электрики и были, казалось, близки по «весовым категориям» в занимаемых должностях…
– Это получилось случайно, потому что Кирилл Иванович Смирнов, работавший тогда в котловане, стремился сосредоточить там, на самой гидростанции, своего рода штаб главных специалистов, отвечающих за пуск гидроагрегатов, и Трахтенберг, приехавший в Братск после Куйбышева, был сразу же включён в эту команду как специалист, уже имеющий практический опыт по пуску куйбышевских машин (Смирнов руководил управлением основных сооружений). Однако подход Смирнова резко противоречил представлениям Гиндина о распределении власти между центральным аппаратом Управления Братскгэсстроя и его подразделением основных сооружений.
– Гиндин постоянно и весьма предметно формировал и опекал свою инженерную команду, стремился к самостоятельной расстановке главных руководящих кадров инженерного корпуса и в конце кондов решительно пресёк центробежные амбиции Смирнова, оставив в котловане по преимуществу организационно-оперативную группу руководящих кадров, линейные службы, а Трахтенберг перебрался в монтажный отдел Управления Братскгэсстроя в уникальном качестве главного инженера отдела, изобретенном специально для этого случая тогдашними интеллектуалами по вопросам структуры, так как Козярский в то время работал начальником монтажного отдела. Вот так и возникла эта конкуренция, заметил Юрий Константинович, которую я легко преодолел, благодаря одному обстоятельству – я был просто-напросто здоровее и выносливее Трахтенберга, а курирование пусковых работ постоянно требовало вечерней и даже ночной деловой активности и пребывания на гидростанции, чего Трахтенберг просто не мог и откровенно признался мне в этом, ну а мне ничего другого не оставалось, как принять этот вызов, что и предопределило естественное разделение наших функций, а значит, и должностные роли в структуре тогдашнего Управления Братскгэсстроя.
– Вскоре я был назначен заместителем главного инженера Братскгэсстроя по вопросам монтажа и энергетики, а Григорий Миронович – соответственно начальником монтажного отдела, и наше дальнейшее взаимодействие стало стабильным и естественным.
…Слушая Козярского и вспоминал события тех далеких лет, я думал о том, что отношения между ним и Трахтенбергом в то время были определены далёко не столь просто, так как борьба за власть и влияние, особенно в период её развертывания, – это всегда феномен, весьма закрытый для окружающих, во-первых, и являющийся равно-действующей очень многих обстоятельств и сил, во-вторых, и дело здесь, конечно, далеко не только в состоянии здоровья, но и в совер-шенно разной и разномасштабной структуре способностей и возможностей этих двух людей.
Мне уже приходилось упоминать о Трахтенберге в очерке и встрече с Малковым, отмечая его способности специалиста электрика и организатора производства, особенно в период пусковых работ, его высокую оперативность и решении текущих вопросов.
Вместе с тем Трахтенберг и его психология отношения к делу и к людям были глубоко воспитаны командно-лагерными методами работы сталинского периода, под руководством широко знаменитых в свое время Комзина. (Куйбышевская ГЭС) и Барабанова – в системе МВД. Главным параметром этой системы была железная дисциплина исполнения принятых решений-команд, за срыв которых и даже за опоздания в сроках следовали самые жестокие наказания, при этом никакие объяснения во внимание не принимались.
Источником таких решений были первые лица, обладавшие без-раздельной властью, жаловаться на которых было просто некому. Все остальные, подчиненные, были исполнителями их держанной воли в многоступенчатой иерархии исполнительной власти; при этом каждый исполнитель в структуре этой иерархии выполнял двойную функцию – рабочую по отношению к верху и командную по отношению к низу сей сложной пирамиды подчиненности; и чем ближе к рядовым людям и заключённым, составлявшим тогда основную часть рабочей силы, находился конкретный работник-винтик, тем более грубое и тяжкое для своей личности давление он ощущал со стороны командных верхов, и тем больше приходилось крутиться ему лично в каждодневной борьбе за выживание.
Эта система напоминала египетскую пирамиду, камни которой, испытывая давление всей вышележащей груды таких же глыб, передавали внешнее давление нижележащим, приплюсовывая к нему свой собственный вес.
Приведенная аналогия приобретала ещё более глубокий и зловещий смысл, если вспомнить, что, по некоторым данным, обработанные каменные глыбы египетских пирамид затаскивались наверх многочисленными рабами по смазке раздавленных тел своих собратьев… Однако иерархия живых людей, составлявших командный аппарат системы, всё же отличалась от египетских пирамид хотя бы тем, что люди нижних уровней могли пробиться наверх, если они были умнее и хитрее некоторых верхних надсмотрщиков и если они проявляли более жестокую подавляющую энергию по отношению к низам, тонко понимая при этом ту грань, через которую уже нельзя было переступить ввиду полного исчерпания деловых ресурсов этих низов…
Вспоминая Трахтенберга, отдавая ему в полной мере дань памяти и уважения за его значительный вклад в деловую энергию производства специальных работ, главным образом на Братской ГЭС и на строительстве БрАЗа (на других объектах того периода, в частности, на БЛПК, он проявил себя в меньшей мере, а в 1970 году он скоропостижно скончался), думаю, вместе с тем, что Трахтенберг в практической работе был вынужден детализировать для себя большое количество исходных данных по каждой задаче, в координатах которой, как я уже отмечал в очерке о Малкове, он действовал уверенно и оперативно, но он не был и не мог быть творцом, не будучи приучен к раскованному, свободному мышлению, разновариантному поиску решений, а значит, не мог и выбрать свой оригинальный вариант подхода к проблеме, когда она перед ним вставала…
Впрочем, он и не стремился к этому.
Как-то раз мы уже поздно засиделись после ужина в гостинице «Люкс» Коршуновстроя в период пуска первой очереди Коршуновского ГОКа в 1964-65 годах. Стояли жестокие холода – 50-60°. Трахтенберг, разгоряченный от удачного дня и выпитой водки (пил он для своего возраста довольно много, хотя и говорил, что «свою цистерну» он ещё не допил), начал вспоминать о своей работе в подчинении у Барабанова, когда время для выполнения поставленных задач было сжато как шагреневая кожа перед смертью её владельца, но ему, Трахтенбергу, удавалось построить работу так, чтобы дать исполнителям необходимое для жизни дыхание, и он был горд успехом своей тактической гибкости. Это был верх его возможностей, как я понимаю, который кажется сегодня относительно скромным, но тогда по жестокости спроса он ходил где-то рядом между жизнью и смертью людей.
Трахтенберг, таким образом, принадлежал к типу людей, призванных преуспевать в системе ценностей, сформированной тем суровым временем, и он вполне акклиматизировался в более лояльных условиях Братскгэсстроя, привнеся из прошлого свои навыки жесткой требовательности при выполнении задачи, коль скоро она была поставлена, ответственности за конечный результат, постоянный контроль за исполнением и незаурядную энергию, пробойный характер, которой был широко известен в среде его делового окружения.
Все это я говорю о Трахтенберге не только потому, что он, как личность, вполне достоин быть должным образом упомянутым в очерках истории Братскгэсстроя, но и потому, что он долгое время, с перерывом около восьми лет, работал рядом с Козярским, и особенности этих людей лучше просматриваются на фоне друг друга… А для людей, знавших того и другого, такое сопоставление представит несомненный интерес…
Однако вернемся в Киев, в уютную гостиную Козярского, который с нарастающей увлеченностью углублялся в свои воспоминания о былом, постоянно возвращаясь при этом в наше время, и сопоставляя разные ценности но времени и в пространстве – это была его любимая манера.
– В Японии, например, молодежи – дорога, однако для того, чтобы эта дорога была удобнее, правительство разными способами стимулирует фирмы, которые берут на работу молодых, понимая, что использование труда молодежи, не имеющей достаточной квалификации, не обеспечивает фирме требуемой нормы прибыли, – говорил Козярский.
– В некоторых странах общество предпочитает обходиться без труда молодых матерей, обеспечивая им возможность воспитывать детей и посвящать им всё своё время, особенно в нежном возрасте, когда дети нуждаются не только и не столько в уходе, сколько в общении… Если молодая шведка, специалист, выходит замуж и рожает двоих детей, ей обеспечивается возможность не работать десять лет. Это глупость, когда говорят, что ребёнка надо раньше отучать от рук, и ничего страшного нет в том, что он покричит и привыкнет… Каждого ребёнка надо больше брать на руки, потому что это – общение, ласка, формирование совместимой психики, в конечном итоге – это продолжение того глубоко интимного процесса единения с матерью, которое зарождается ещё до появления его на свет, и если оно естественно продолжается некоторое время и дальше, тем гармоничнее и естественнее продолжается развитие ребенка, тем больше будут его связи с матерью и отцом, их влияние на него, тем больше будет значить доброта в семейных отношениях, а в конечном итоге – в обществе…
Я не дословно привожу здесь прямую речь Козярского и где-то дополняю её некоторыми своими соображениями, но в этой проблеме, как и во многих других, мы с Козярским общались на одной волне и хорошо понимали друг друга.
Слушая Козярского, я думал о том, что глубочайший духовный кризис, поразивший наше общество, имел многие первопричины и разные точки отсчета во времени, определяемые разными аналитиками, но каким бы ни был общий кризис психологического состояния нашего народа, разных его слоев, для каждого отдельно взятого человека он ощутим в большей или меньшей степени и в очень большой зависимости от того, насколько он был счастлив в детстве, обделён или не обделён лаской и вниманием родителей, какие ответы он получил на свои 437 вопросов в день, которые, по данным Чуковского, задает ребёнок в возрасте от 3-х до 5 лет своим родителям и окружающим, наконец, как он был накормлен – чем и своевременно ли…
От этого последнего обстоятельства, возможно, будет зависеть, какие именно вопросы он будет задавать своему окружению.
– Меня воспитывала бабушка, – завершил Козярский первый этап своего рассказа, – и дома меня сразу подготовили в третий класс…
Трудовая биография Козярского началась в 15 лет, когда он начал работать электромонтёром Киевэнерго и, далее – монтёром радиоузла одного из клубов, а потом – годы учебы в Киевском индустриальном институте по специальности «Электрические станции, сети и системы»; это было естественное, «электротехническое» продолжение его рабочей практики, но руки его всю жизнь помнили монтерский инструмент, что пригодилось ему в дальнейшем на Чирчике и способствовало развитию вкуса к наладочным работам.
…Однако в период обучения в институте Козярскому пришлось пережить глубокую личную драму, первую по счету, и она, как я понял по целому ряду обстоятельств, не связанных с ней на первый взгляд, оказала на него сложное, пожизненное воздействие…
В 1937 году арестовали отца, а сыну было двадцать лет. Отцу дали десять лет без права переписки, а через месяц после ареста отец умер, как отметил Козярский в своей автобиографии…
Скромный помощник присяжного поверенного оказался весьма опасным человеком для общества, по мнению компетентных органов, и его постигла судьба сотен тысяч таких же несчастных людей, несчастных только потому, что они родились в нашей стране.
– Когда человек умирал в тюрьме, – тихо говорил Козярский, – его фамилию дописывали в расстрельные приказы, чтобы было меньше возни и объяснений…
Вспоминается горький анекдот, относящийся к тем временам, как образчик черного юмора.
– Ты за что сидишь?
– Ни за что.
– Врёшь! За это дают 10 лет, а ты получил 15…
По этому раскладу отец Козярского пострадал ни за что, однако платить за это пришлось и семье.
20-летнему Юрию в институте предложили стать сексотом (сек-ретным сотрудником) или доносчиком-осведомителем для всемогущих органов, однако он твёрдо отказался.
Тем не менее, несмотря на отказ от сотрудничества с органами, ему позволили закончить институт, но с матерью их разделили, она уехала в Полтаву, прожила там полтора года.
О
б издевательствах над людьми в период репрессий было написано много, и я упоминаю здесь об этом событии не для того, чтобы лишний раз пнуть нашу историю, а затем, чтобы подчеркнуть, как по-разному из этих испытаний выходили люди.
Предложение о доносительстве, сделанное молодому Козярскому, прими он его, означало бы для него отказ от главных ценностей, на которых сформировалась к этому времени его личность, – понятий добра и зла, любви к ближнему; достигнуть здесь какого-то компромисса было нельзя – надо было или ломаться, становясь рабом системы, или отказываться, принимая вызов судьбы, но отдавая при этом себе ясный отчет, что тебя могут подвергнуть любым испытаниям.
Козярский твёрдо предпочел отказ, фиксируя этим СВОЙ пожиз-ненный, выбор в пользу общечеловеческих ценностей, однако психология этого выбора и последовавшие за ним неизбежные испытания выработали у него сложную и многослойную психологическую защиту, которая позволяла ему в дальнейшем принимать нелёгкие решения и выдерживать жесткое, противостоящее давление – как следствие своих решений. Конечно Козярский весьма – и в первую очередь – считался с силовыми факторами, исходившими из партийных и административных верхов и был предельно точен и дипломатичен в общении с ними, но при этом он с большим искусством пользовался мощной психологической защитой, помогавшей ему в короткий срок включить в дело свои незаурядные аналитические способности и показать основную гамму последствий, к которым может привести неожиданное, спонтанное предложение, когда верхи эмоционально уже готовы принять его, однако холодный душ жёсткого анализа, исходивший от Козярского, останавливал этот эмоциональный пыл и, как минимум, отсрочивал дурное решение, позволяя выиграть время для отработки более правильного подхода…
Свое умение сформировать и построить индивидуальную концепцию по вопросу, с учетом многочисленных, ранее высказанных мнений, но тем не менее отражающее личную обоснованную позицию, Козярский с наибольшим блеском демонстрировал на различных собраниях, которые в недавнем прошлом были совершенно неизбежным компонентом формирования общественного мнения…
Теперь, когда многие из этих собраний ушли в прошлое, я думаю, что они в ряде случаев играли, конечно, общеположительную роль, когда власть имущие хотели провести в жизнь определенные идеи и принятые в узком кругу решения, однако почти всегда они сопровождались оглупляющим, стадным эффектом, рассчитанным на некритичное восприятие массовой психологией, когда глубокие, продуманные решения, но предложенные неожиданно, почти всегда проигрывают популистским лозунгам и не относящимся к делу эмоциональным всплескам…
Козярский, если он не был докладчиком и если обстановка по теме требовала его выступления, брал слово в конце, когда присутствовавшие уже в принципе были не готовы что-либо воспринимать от других выступающих и тупо думали только о регламенте; и в точных выражениях, не похожих на стереотипы предыдущих ораторов, всегда свежо и своеобразно констатировал обстановку, выделял главные моменты и называл конкретные фамилии в осторожно одобряющем или сдержанно критическом варианте; при этом было видно, что он абсолютно не связан лично чьим бы то ни было мнением – напротив, он всегда очевидно раздражался, если кто-то, пытаясь обосновать свою позицию, ссылался в разговоре с ним на авторитет третьего лица. Это была прекрасная школа – он учил думать, взвешивать, решать, принимая во внимание лишь объективную аргументацию, построенную на реальных данных и жесткой логике взаимосвязи между ними…
…Все эти качества молодому Козярскому предстояло ещё выработать, но сейчас его главным достижением было во-первых, то, что ему позволили закончить институт, и во-вторых – сохранить в себе человека, главные ценности души, хотя они и были опалены жгучим огнем беспощадной репрессивной машины, сконцентрировать в этом обожженном слое души защитные механизмы её главных ценностей – так я понимаю Козярского по окончании института, когда он делал свой главный выбор.
Дети и юношество сегодняшнего дня попали в бурлящий котел небывалого обновления страны, которое по значению сопоставимо с периодом становления 1000-летней России, смутным временем; начала эпохи Романовых, величайшим социальными катаклизмами массовых движений Болотникова, Разина, Пугачёва; и объединяющим началом в борьбе за гражданское согласие, которое только и может спасти нас, являются общечеловеческие ценности добра, ненависти и любви, крепости и святости семейного очага, сочувствия и милосердия к тем, кому труднее или кто слабее. И любой выбор, который надо делать сегодня молодым, сохранит их личности только при том решающем условии, если он, их выбор, будет построен на этих ценностях – так, как сумел, в частности, Козярский.
– …По окончании института, – продолжал Козярский, – меня направили в дирекцию строящейся Чирчикской ГЭС (первая моя гидроэлектростанция на Чирчике –Комсомольская), где я последовательно работал в должностях инженера, заместителя начальника и начальника электроцеха. Навыки в работе у меня были, ещё я бы отметил – чувство справедливости, подытожил он свои размышления за кадром нашего диалога…
– При назначении в Минэнерго мне установили пониженный против штатного расписания оклад и сказали при расставании – на месте вам поправят. (Прием распространённый – таким же образом со мной обошлись в дирекции строящейся Братской ГЭС при поступлении на работу; прим, автора).
– Я хотел идти в наладку – но не получилось, а тут в дирекции возникла потребность поработать в группе Ленгидропроекта по замене рабочей документации на новую аппаратуру – это было по мне! Позднее я перешёл в электромеханический отдел дирекции Чирчикских ГЭС…
Отметим, что Козярский, по существу, с самого начала своей деятельности формировался как специалист-электрик по подготовке к пуску основного энергетического оборудования – практика работы в наладке у него уже была, теперь появился опыт, работы в проектной организации и наконец в аппарате заказчика – уже в те годы он закладывал свое будущее в ранге заместителя главного инженера Братскгэсстроя по монтажу и энергетике…
– Работа, в дирекции была активной, – отметил Юрий Константи-нович, – было много неправильного монтажа, его приходилось переделывать.
– Меня заметили – дали комнату, мебель….
Казалось бы, все шло неплохо у Козярского, по прошлое не отпускало его, не по всем счетам, оказывается, он уплатил – в соответствующих органах ему задали вопрос:
– У Вас репрессирован отец. Вы лояльно относитесь к Советской власти?.
За этим вопросом, как всегда были иезуитская издевка органов и звериный оскал стоящей в тени угрозы. И вновь судьба испытывала Козярского на изгиб.
Ответить «да, лояльно» – значит предать память отца и сломаться. Ответить «нет» – обречь себя на лагеря или, возможно, на худшее… И Козярский вновь отчаянно защитил в себе человека.
– Вопрос глупый и оскорбительный, – ответил он.
– …На меня начали собирать компромат, и я понял, что время моей работы здесь сочтено. Я всегда был резок в принципиальных вопросах…
– Вскоре последовало предложение снять меня с работы за халатность по ст. 47 а – при проверке на соответствие, занимаемой должности. Я перешёл на работу в Чирчикстрой инженером-сметчиком, такую возможность предоставило штатное расписание, хотя на сметах мне сидеть не пришлось. Время при всем том было интересное.
– Мы получили тогда щиты управления с Кондопожской ГЭС и сделали из них три комплекта щитов для небольших станций Чирчикского каскада, это была интересная работа.
– Руководители Чирчикстроя отзывались обо мне хорошо; через некоторое, время меня назначили главным инженером монтажного управления треста «Чирчикстрой», и я принимал участие в сооруже-нии ряда гидроэлектростанций каскада, в том числе Фархадской ГЭС. Как стало ясно, именно на этом этапе работ успокоились, наконец, и «компетентные органы», и я вплотную подошел к решению вопроса о своей партийности, без чего рост по работе был практически невозможен, но помимо проблемы роста нельзя было рассчитывать хотя бы на относительную лояльность всемогущих органов. (Правда, 11 месяцев Козярского не принимали кандидатом в члены КПСС).
В годы моей работы под руководством Козярского мы с ним много говорили о взаимоотношениях с партийными органами – у него был на этот счёт очень богатый опыт, к тому же обстоятельно осмысленный и переработанный в его интеллектуальной мастерской. В партию он иступил в 1954 году, на строительстве Иркутской ГЭС, уже после Средней Азии и Сталинграда, и, как я отмечал выше, всегда и в первую очередь удерживал свои взаимоотношения партийными комитетами всех уровней – с которыми соприкасался – в границах лояльности.
Такая практика прежде всего обеспечивала свободу действий по основной работе и поле гарантированной безопасности, однако этот принцип был лишь первой линией взаимодействия – дальше начина-лись реальные контакты с конкретной личностью партийного руководителя, и здесь, конечно, отношения строились строго индивидуально.
Так было со Щетининым и Коцюбой (Иркутск, 1-й и 2-й секретари обкома КПСС), Саврицким и Скурковиным (Братскгэсстрой, секретари парткома), Мальцевым (Усть-Илимск, секретарь парткома стройки), Тарасовым (Братск, секретарь горкома).
С каждым из них Козярский вступал в смешанные, производственно-человеческие отношения и, пользуясь своими широким пониманием реальных проблем, способностью рассмотреть их со стороны, неожиданной для собеседника, строил точную логику действий, направленных на решение вопроса, вовлекая в эту схему своего партнёра по переговорам, и убеждал его в конечном итоге – в своей правоте. И тогда оппонент становился если и не союзником, то во всяком случае не мешал Козярскому действовать по-своему.
Так было, например, при отлаживают отношении с Коцюбой, ко-гда Козярский впервые приехал на бюро Иркутского обкома КПСС с докладом о ходе строительства Братского лесопромышленного ком-плекса в ранге начальника УС БЛПК.
На этом же заседании первым слушали доклад Исаченко о ходе строительства Байкальского целлюлозного завода, во главе которого он был поставлен после увольнения из Братскгэсстроя как предшественник Козярского в той же должности.
Исаченко докладывал долго и плохо, отмечал Козярский, но его терпели, так как он был свой человек, известный в сферах. По итогам своего доклада Исаченко получил выговор.
– По ходу дела, – посмеивался Козярский, – я учел все недостатки доклада Исаченко. По крайней мере так я считал, и доложил компактно и по существу, но Коцюба, тем не менее, налетел на меня, как коршун…
– Вы что, на профсоюзном собрании?! – И далее в том же духе…
– Потом у меня с Коцюбой сложились вполне нормальные отно-шения, но я понял и запомнил, что он ведет себя с человеком по-разному в зависимости лишь от того, идет ли разговор наедине или в обществе. На людях он поддерживал имидж строгого руководителя, по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», но наедине, когда кара становилась ненужной, он был вполне терпим и лоялен…
– Действуя таким образом, Коцюба не был оригинален – это был широко известный прием..
– Как хорошо известно, руководящая роль партии в нашем обществе практически подменялась ролью аппарата и его ведущих руководителей, которые всегда хорошо понимали, что властными функциями можно пользоваться с уверенностью лишь при том решающем условии, если окружающие, руководимые люди будут постоянно уверены в жёстком имидже своего шефа, содержащем в себе компонент иррациональности и непредсказуемости.
– Именно поэтому люди постоянно вынуждены думать – а что он выкинет на этот раз? На всякий случай надо с ним поосторожнее, надо действовать с учётом расположения его духа, подыграть на его здоровье и личных симпатиях-антипатиях…
– Так начинается чиновничье лизоблюдство и загнивание аппаратной верхушки, если, однако, такого рода подходы воспринимаются первым лицом, но ведь это в конечном итоге – заразная болезнь…
– Интересно и то, что психология партийных бонз всегда учитывала при оценке деятельности конкретных должностных лиц этот компонент личной лояльности, причем удельный вес этой лояльности всегда соотносился определённым образом с реальным ходом дела, за которое отвечал докладчик, и личной компетентностью партийного работника в этом деле.
– Таким образом, человек лояльный и известный при любом до-кладе «на торце» имел преимущество в сравнении с человеком малоизвестным, которому ещё предстояло проявить себя, и огонь критики, исходящий со стороны «первого», всегда был более обжигающим для тех, кто впервые входил в чистилище, – при прочих равных условиях.
– Следует отметить и практикуемый в те времена прием сравнения партийного и профсоюзного подхода к делу, который трактовался всегда партийными деятелями в сторону унижения «профсоюзного» подхода. При этом молчаливо подразумевалось, что профсоюзные подходы и оценки являются обычным околодельным трепачеством, в то время как партийные (подходы и оценки) заведомо более объективны, точны и имеют прямое властное влияние на дело. По существу, метод компрометирования профсоюзов преследовал – и добивался – целей утверждения партийного престижа за счёт унижения других подходов и людей, их представлявших.
– Был еще один любимый прием, который действовал безотказно и был построен по принципу «я – начальник, ты – дурак».
– Технология этого приема состояла в том, что партийный руководитель, первый секретарь, который вел партком или бюро (на уровне области), часто и вполне нагло перебивал докладчика, заявляя, что тот, говорит «не на тему».
– Такой подход был наиболее унизительным для того, кто докла-дывал, потому что докладчик по занимаемой должности был обязан компетентно владеть проблемой, и потому публичное замечание партийного босса по поводу «не на тему» означало, одновременно и сомнение верхов в компетентности, а значит, и пригодности этого руководителя. Такой прием был обычным проявлением безнаказанной фанаберии партийного чиновника с задачей, помимо прочего, подчеркнуть свою значимость и поучить того, кто был на торце, уму-разуму, если тот ещё не имел необходимого запаса личной лояльности, но, разумеется, и в том случае, если его провалы в работе выходили за рамки допустимого уровня – допустимого лично для того, кто на торце…
– Помню, к такому приему в свое время широко прибегал и Алексей Илларионович Саврицкий, бывший на партработе много лет (секретарем парткома Братскгэсстроя и первым секретарем Падунского райкома партии). Однажды мне стало известно, что на парткоме будет заслушано моё сообщение о внедрений новой техники. Не имея опыта общения с партийными органами, я счел такое намерение обычным и не придал особого значения нервному состоянию Козярского, который был членом парткома и присутствовал на заседаниях.
– Едва мне дали слово и я начал говорить, Саврицкий тут же перебил меня, заявляя, что я говорю не на тему, однако Козярский резко возразил ему и одновременно одобрил мое начало – говорите, говорите. Недоумевая про себя, я продолжал своё выступление, однако в середине регламента Саврицкий вновь заметил, что я «говорю не на тему».. Тогда, ободренный реакцией Козярского, я заявил ему о своих правах:
– Алексей Илларионович, Вы дали мне тему и регламент. Регла-мент я не перебрал, а тему я знаю достаточно хорошо, поэтому прошу Вас не перебивать меня. Я скоро кончу сообщение, и тогда Вы скажете всё, что считаете нужным.
– Члены парткома, особенно Фоменко, оценили такой обмен ре-пликами, и обсуждение вопроса обошлось без неожиданностей…
И лишь позднее я понял состояние Козярского: слушали на парткоме меня, а оценивали и делали выводы по работе Козярского, моего прямого начальника; Саврицкий же, всегда внимательно следивший за позицией начальника строительства, не решился бы на такое рассмотрение без его ведома, во всяком случае Козярский имел право это предполагать, а здесь уже было о чем подумать… Этот прием можно было бы назвать конфуцианским, имея в виду, что в мао-цзедуновском Китае одно время усиленно критиковали древнего китайского философа Конфуция, причем эта критика порой доходила до небывалого ожесточения – внешний наблюдатель мог бы подумать, что Конфуций – вполне реальное лицо в современном Китае и ведет из подполья крупную диверсионную работу против ныне существующего строя. И только когда коса политических репрессий начинала свою работу, становилось ясно, где столь долго и тщательно укрывались сторонники Конфуция в современном Китае, исподволь готовя коварные козни великому кормчему китайской революции…
…Свои взаимоотношения с партией и с партийными органами Козярский во все времена строил очень серьёзно, и мы ещё вернемся к его опыту, а теперь вновь, вместе с Козярским – по темам наших разговоров…
– Из Чирчика, после 10 лет работы в Средней Азии, я попал в Сталинградгидрострой – это был 1952-й год; начальником строительства был Логинов, с которым судьба уже сводила меня перед отъездом в Среднюю Азию; и когда я решил представиться Логинову – все-таки 10 лет – большой срок, да и с чего ему помнить обо мне все эти годы, Логинов приятно поразил меня своей памятью и вниманием.
– Не надо представляться мне, товарищ Козярский, я вас помню – и даже знаю, чем Вы занимались эти 10 лет…
Кстати, Чирчик был первой стройкой Логинова, дошедшего впо-следствии до заместителя наркома и одно время назначенного Министром строительства электростанций.
Работа на строительстве Сталинградской ГЭС оказалась исключительно сложным периодом в моей жизни и в работе отметил Козярский, меня назначили начальником управления сантехработ. Это было новое для меня дело, однако не этом были трудности. Главное – лагеря, где основной рабочей силой были заключенные. Сложно было с охраной. Если случался побег – на работу не выводили, срывалось дело.
Непредсказуемость лагерной жизни порядков входила в резкое противоречие со всеми моими представлениями о том, как надо и как можно работать. Действовала система зачётов за хорошую работу, однако заключенные требовали подписывать зачёты во всех случаях. Я на это не шёл и поставил условия сразу: будет работать – будут зачеты.
Сами зэки и их психология были, на мой взгляд, меньшим злом, чем психология охранников, которые считали, что «шлёпнуть человека – это интересно». Зэки ненавидели охранников, но терпимо относились к штатным работникам МВД.
– Ему, подлецу, интересно шлёпнуть человека, –проскрипел Ко-зярский.– И было видно, что даже сейчас, через много лет, трудно ему вспоминать и говорить об этом.
Увольнять вольнонаемных там принято на полную катушку, накручивав при этом все возможные статьи – чтобы больше навредить человеку. Козярский если вставал вопрос о чьем-либо увольнении, всегда требовал «набрать» минимум, необходимый для этого, не обостряя, по возможности, проблему.
Как-то на планерке при подготовке к вводу очередных объектов, он докладывал состояние дела по своим работам, называл тематику, цифры, объёмы, но вдруг его прервали:
– Что за чепуху Вы городите?
И Козярский понял – прошла команда ввести объект. Это значило, что для тех, кто, будучи выше его, принял эту команду к исполнению, никакие объёмы работ и детали в принципе не могут иметь значение: объект надо вводить и делать это любой ценой, а ему, Козярскому, предлагали быть винтиком этой человеческой бетономешалке. Надо было уходить…
– Незадолго до этого, – сказал он, – я пошел к Логинову по како-му-то вопросу, а он, подытоживая нашу встречу, заметил:
– Что-то я не слышал, чтобы на Вас кто-то пожаловался, что Вы превысили свои полномочия. Отсюда я делаю вывод, что Вы бездельник.
Это было блистательно-точное замечание, характеризующее чисто силовую систему производственных отношений, при которых добиться чего-то можно было только способом «прижать и зажать» того, кто не дает делать дело или создает искусственные помехи, а так вели себя все или почти все, расширяя свою зону действий. Но такая система была не для Козярского, который во главу угла всегда ставил реальную и обоснованную производственную необходимость, как исходную основу для принятия решений, однако силовое перенапряжение Сталинградского периода работы в жизни Козярского дало ему шанс усвоить жестокую истину времени, в условиях которого он жил: если хочешь что-то делать, добейся власти, нужной степени свободы действий – чтобы тебе не мешали работать…
…Отпуская Козярского (через некоторое время он уехал на строительство Иркутской ГЭС) и успев понять его достаточно глубоко, Логинов заметил:
– Я понимаю, почему у Вас здесь не получается, но Ваше время впереди. Вы найдете работу по себе…
…Судьбе было угодно вновь свести Козярского с Логиновым уже в Иркутске, когда Козярский работал под началом Бочкина, возглавлявшего строительство Иркутской ГЭС, а Логинов приехал в Иркутск в ранге союзного Министра строительства электростанций.
Увидя Козярского среди окружения Бочкина и не обращая внимания на самого Бочкина, Логинов поздоровался с Козярским, потом со всеми остальными и сразу же предложил Козярскому рассказать о ходе работ.
– Я начал, естественно, со своих, монтажных работ, – оживленно вспоминал Козярский, – но когда я закончил Логинов попросил про-должить уже по общестроительным работам. У меня получилось, и с этого дня Бочкин как-то поверил в меня.
…В дальнейшем, среди других тем, которых он касался подробно или мимоходом, Козярский неоднократно, вновь и вновь, обращался к фигуре Бочкина, характеризуя его в идеях и поступках, оценивая с разных сторон и постепенно переходя к его сопоставлению с Наймушиным – это было уникально в его точной, дозированной подаче, освобожденной от нетипичной фактуры и всего того, что могло быть истолковано как результат личных старых обид; для меня это было тем более интересно и потому что я помнил некоторые его оценки ещё с 1986-го года, когда мы с Чурсиным прибыли в Киев как представители Братскгэсстроя на его 70-летие – об этом я упоминал выше.
Бочкин был интересный, колоритный мужик, конечно, пил он много – больше, чем Наймушин… Любил заигрывать с рабочими, противопоставляя им инженерно-технический состав – последний он в широком смысле считал бездельниками и трутнями. Такие подходы заведомо не способствовали интересам дела, восстанавливали рабочих против инженеров вообще, а в результате и сам Бочкин иногда попадал в дурацкое положение.
Так, однажды в Красноярске (уже на строительстве Красноярской ГЭС, где Козярский и Бочкин возглавляли стройку как главный инженер и начальник (см. ниже) Бочкин провернул крупное сокращение инженерно-технических работников. Едва он завершил эту работу, довольный собой, как последовало инициативное указание Минэнерго о плановом, обычном сокращении управленческого персонала – вот тут-то Бочкину пришлось покрутиться, ведь инженерные службы и без того были оголены…
Заигрывая с рабочими, он провоцировал с ними панибратские отношения и однажды бурно поспорил с крановщиком Букриным. Оба при этом были пьяны, причем Букрин напился после смены, а Бочкин – в рабочее время. Бочкин получил жесткий отпор, оскорбился и запомнил этот случай… Козярский в этот период работал начальником управления механизации, а Батенчук (работал позднее на Вилюе, а потом на Каме) был главным механиком, об этом Козярский упомянул мимоходом, отметив рабочий этап судьбы известного в Минэнерго человека.
Бочкин несколько раз упорно требовал от Козярского уволить Букрина, и когда Козярский понял, что Бочкин не отстанет, он реши-тельно отказался выполнить указание начальника, заявив, что иначе у него, Бочкина, будут крупные неприятности. После этого Бочкин наконец отказался от своего требования.
В своих взаимоотношениях с рабочими Бочкин постоянно под-держивал имидж руководителя, взаимодействуя с которым напрямую, рабочие могут решать все вопросы, и если бы не противодействие инженерной руководящей прослойки между рабочими и им, Бочкиным, всё было бы в порядке. Козярский вновь вернулся к этой особенности Бочкина, которая его резко раздражала – он в принципе не переносил популизма и тупого, неаргументированного давления, особенно, если они входили в жесткое противоречие с его концепцией по проблеме, в правильности которой он был убежден…
Козярский вспомнил, как Бочкин, рассматривая жалобы механизаторов на плохие заработки, дал указание платить за погрузку выработанного грунта на транспорт по ценам первичной его разработки, чем сразу же дестимулировал белее тяжёлые вскрышные работы…
И ещё один пример: Козярский не без труда доказал необходи-мость введения для экскаваторщиков средней нормы выработки на доборе скалы под отметку бетонирования прискальных блоков – ранее здесь применяли простую повременную оплату, и стимула для работы просто не было.
Я все более убеждался, что во взаимодействии с Бочкиным Козярскому в целом приходилось очень нелегко, поскольку он органически и концептуально не воспринимал его методы и его самого как личность – это в основном; и в меньшей степени он оценивал эффективность его деловых приемов, снискавших Бочкину, если верить прессе, славу талантливого гидростроителя и руководителя.
Бочкин был склонен к пустой трате времени, заметил Козярский. Как-то он предложил поехать в котлован, и мы пробыли с ним там до 5 часов утра без определённых занятий.
К чести Бочкина, он умел отшивать при случае назойливых кон-тролеров и визитеров и мог сказать, например, настырному представителю Минэнерго, если возникала необходимость:
– Что ты в этом понимаешь?!
Впрочем, литературный портрет Бочкина выглядел, по-видимому, достаточно выигрышно ещё и потому, что Андрей Ефимович весьма приветливо относился к прессе и её представителям, это тоже было широко известно.
Конечно, работа на строительстве Иркутской ГЭС давала Козярскому пищу отнюдь не только для политической борьбы, но и для критического анализа текущих рабочих ситуаций.
– Помню, – отметил он, – как я столкнулся с крупными суммами материальных ценностей на балансе управления механизации – порядка 4-х млн. рублей. Это был шланговый кабель, которого в натуре в таких количествах просто не было. Разобравшись, я понял, что бухгалтерия в одном случае учитывала его в метрах, а в другом – в килограммах, путаницу устранили, и длительный конфликт снялся сам собой. До меня почему-то никто не захотел разобраться в простой неурядице.
– На стройке были просто талантливые люди, из которых я отме-тил бы конструктора Михайлова – на его счету были крановые кон-струкции, подъёмники и другие разработки.
…Пять с половиной лет отдал Козярский строительству Иркутской ГЭС, но время диктовало свои законы: гидроагрегаты станции были введены, реальной работы не было, взаимоотношения с Бочкиным были не таковы, чтобы идти с ним дальше, и, будучи в Минэнерго, он поинтересовался возможными перспективами своего трудоустройства.
– Здесь надо отметить, – сказал он, – что в этот же период я получил предложение перейти на партийную работу – секретарем парткома Братскгэсстроя, причем это предложение сделал Шешуков, 1-й секретарь Иркутского обкома партии.
Предварительно я решил повидать Наймушина, а повидав, отка-зался. Я понял, что быть пешкой я не могу, но и оказывать на Найму-шина реальное давление, в чём иногда была бы потребность, это не по мне.
К тому же и Бочкин посоветовал:
– А пошли ты их…
К слову сказать, Шешуков до перехода в Иркутский обком партии был у Бочкина секретарем парткома, но Бочкин выжил его, хотя сам приобрел и его лице недоброжелателя, так как Шешуков попал-таки именно в обком. Игра судьбы…
– Первоначально мне порекомендовали в Минэнерго перейти в дирекцию Иркутской ГЭС на должность зам. главного инженера, – сказал Козярский, – но эксплуатация меня но привлекала. Я зашел к Белякову, но он сказал, что Хрущев недавно отрицательно высказался по отношению к гидростроителям. Зная Белякова, я понял, что дела здесь не будет, хотя прямой связи между моим трудоустройством и большой политикой в гидроэнергетике – даже если бы она резко изменилась – просто не было.
Вскоре я получил одно за другим два предложения – главным инженером на Бухтарминскую ГЭС и начальником технического отдела Братской ГЭС. Конечно, Братск привлекал меня больше, и я уже был близок к тому, чтобы дать согласие, но в ПРО Главка мне посоветовали идти в Братскгэсстрой – Гиндину был нужен заместитель.
…С Гиндиным мы договорились быстро, я отказался от Кременчуга (Кременчугской ГЭС) и прибыл в Братск…
В переговорах с Гиндиным я не поинтересовался своей зарплатой, чем вызвал его искреннее удивление.
Вышло так, что в момент моего прибытия Наймушин был в командировке, и по его прибытии мне посоветовали к нему зайти. Я зашел и представился, а он буркнул в ответ: «Ну и работайте».
Такой приём объяснялся просто – между Гиндиным и Наймушиным постоянно шла скрытая борьба за власть, то утихая, то вспыхивая вновь, сдерживаемая самоконтролем каждого из них, ибо оба они умели держать себя в руках, молчаливо признавая необходимость свободной зоны действий для каждого. Кадровая политика была в ведении Наймушина, но он молчаливо признавал за Гиндиным его право подбирать себе ближайших помощников, хотя изредка и порыкивал при этом.
Вместе с тем Наймушин, разумеется, считал себя полновластным хозяином стройки, оставляя за собой право в нужных случаях вмешаться в любую ситуацию, если этого потребует дело, и его верховные права никто не оспаривал…
Через некоторое время, говорил Козярский, ко мне подошел Иванов из ОТЗ и попросил завизировать приказ о реорганизации УГЭ, причем я назначался начальником УГЭ. Я отказался от визирования и переговорил с Гиндиным, тот тоже резко возразил: это глупости, делайте, как мы договорились.
…Когда приехал Наймушин, между нами состоялся нелицеприятный разговор.
– Я не привык, чтобы мои приказы издавались для сортира, – за-явил Иван Иванович.
– В сортире я занимаюсь другими делами, – ответил Козярский, – и я не хочу быть футбольным мячом между Вами и главным инженером…
В этом эпизоде Козярский действовал сообразно своему жёсткому жизненному опыту, который убедил его в особом значении первых встреч с человеком для судьбы всех дальнейших отношений с ним.
– Нельзя давать слабинку с ходу, иначе тобой будут помыкать всегда. А я, – добавил Козярский, – никогда не позволял помыкать собой. И это было сказано по праву, с полным основанием…
Конечно, такой ответ не мог поправиться Наймушину, но его ценнейшей особенностью было умение сопоставлять значимость своих личных симпатий или антипатий к человеку с его реальными деловыми возможностями.
Применительно к Козярскому Наймушину ещё предстояло убе-диться в этом, надо было выждать и присмотреться к человеку, кото-рый уже в стартовых разговорах сделал о себе далеко идущую заявку…
Идя по жизни, Козярский в основном сам выбирал свои пути, и там, где от него требовалось дело, он направлял на достижение своих целей все силы личности и набирал очки, наращивая свой потенциал, но там, где пытались ущемить его достоинство и честь, он предпочитал сохранить их, хотя бы ценой должностного статуса.
Последовательно находясь рядом с такими могучими характерами, как Бочкин и потом Наймушин, Козярский, конечно, не раз получал ожоговый эффект от соприкосновения с ними, но он был защищён и закалён испытаниями, выпавшими на его долю раньше, и потому сумел уберечь себя…
После нескольких промежуточных назначений Козярский утвер-дился в должности заместителя главного инженера по монтажу и энергетике, и в дальнейшем не только руководящий состав Братскгэсстроя, но и широкий круг должностных лиц, с которым он взаимодействовал, постепенно расширяя его, – все сложное братскгэсстроевское общество естественно приняло его в свою среду и наделило необходимым для занимаемой им должности уровнем реальной власти.
Практическим развитием этой идеи бы¬ли взаимоотношения Козярского и Трахтенберга, о которых было сказано выше, и его взаимоотношения с Гиндиным, которые почти всегда искрили при столкновении этих двух людей, потому что Козярский, следуя своим убеждениям и принципам, предельно жёстко защищал зону своей самостоятельности, в пределах которой он мог бы принимать не опровергаемые кем-либо решения.
– Вначале это было как в цирке, – улы¬бался Козярский, отдаваясь воспоминаниям о бурных эпизодах далекого прошлого. – Гиндин поручает мне рассмотреть предложение, имея в виду его детализацию, а я в ответ выдвигаю контрпредложение. Гиндин в свою очередь обрушивает на меня все эпитеты, присутствующие столбенеют… Хамство бесконечно, если ему не давать отпор. Я всегда вел себя достаточно независимо, хотя риск проиграть тоже был нередко, и я отдавал себе в этом отчет, – заключил Козярский. – Нельзя в принципе выигрывать в частном вопросе ценой ущемления своей личности в чем-то главном…
Я отвлёкся от своих воспоминаний и вновь взглянул на фотографию Козярского, обратив внимание на жёсткие линии волевого подбородка, прижатые к голове уши и лучевую, проникающую выразительность умных глаз – этому человеку явно пришлось пройти через тяжёлые испытания, доверяя при этом по большому счёту только себе.
– …Конечно, – помолчав, продолжал Козярский, – Наймушину пришлось потерпеть мое вынужденное безделье полгода, и я благодарен ему за эту терпимость. Он понимал мое состояние (выше я упоминал, что вскоре после приезда в Братск у Козярского умерла жена, и у него на руках осталась маленькая Таня), я был полностью разбит, как личность, я просто не мог работать, однако время понемногу помогало мне, работало на меня.
Одна из первых задач, на которую мне пришлось отвлечься, было сооружение выноса железной дороги Тайшет-Братск-Усть-Кут из зоны затопления – в эту зону попадал участок железной дороги 110 километров, и она пролегала по плотине строящейся Братской ГЭС на специально оборудованной отметке главной бетоновозной эстакады, по верху которой перемещались основные бетоноукладочные 2-консольные краны.
Основную работу по этому выносу выполнял Ангарстрой, однако изготовление металлоконструкций моста, сопряженных с главной бетоновозной эстакадой должен был делать Братскгэсстрой.
Это была сложная специальная задача, и я постарался перепоручить её Ангарстрою, воспользовавшись тем, что дирекция и проектировщики опоздали с выдачей технической документации, а мы, по нормам, не успевали развернуть производство и своевременно обеспечить непрерывность железнодорожного движения.
– …Было непросто, но я заставил их изготовить и смонтировать эти сложные металлоконструкции, – вспоминал Козярский, и ноты жёсткости, временами звучавшие в его речах, вновь явственно дали себя знать.
Меня беспокоил демонтаж пролётных строений старого железнодорожного моста ниже Закерняйки, у Мостовой – оставалась всего неделя сроку по графику, но мостовики блестяще справились со своей задачей, я лишний раз убедился в значении специализации и высоком классе субподрядных организаций всесоюзного масштаба, прославленных специалистов своего дела.
Надо было видеть, как спокойно и буднично они подводили баржи со специальными кингстонами под пролётные строения моста таким образом, что металлические этажерки, смонтированные подпирали снизу эти строения, расстыкованные с соседними пролётами и подготовленные к демонтажу. Баржи фиксировались на якорных растяжках, а потом откачивали воду из кингстонов, и баржи всплывали…
– При этом гигантский пролёт зависал над отметками концевых креплений опорных быков, и баржи медленно уходили, неся на себе металлические махины. Это была красивая работа, – улыбался Козярский, – она запомнилась мне навсегда.
– Сложное дело были завершено в срок, и я занялся подготовительными работами к пуску первых агрегатов. Меня назначили техническим руководителем пуска…
…Вспоминая этот период (я работал тогда старшим инженером монтажного отдела Управления Братскгэсстроя), отмечу, что я часто виделся с Козярским, сидевшим в одном кабинете с Трахтенбергом, и невольно присматривался к нему. По сравнению с оперативно-стремительным Трахтенбергом, Козярский, с которым я в то время не взаимодействовал непосредственно, без усилий со своей стороны приковывал к себе моё внимание углубленной сосредоточенностью при изучении заводской документации гидроагрегатов Братской ГЭС.
Ленинградский завод «Электросила», изготовитель генераторов, разместил заводскую документацию в больших, массивных альбомах. И Козярский, спокойно изучая разделы, схемы, комплектацию, технические условия, временами переворачивал большие, массивные страницы альбомов своими длинными музыкальными пальцами (позднее я узнал, что он играл на пианино) и, встречая мой взгляд, молчаливо и слегка улыбался – больше своим мыслям, чем в мою сторону.
Козярский был всецело необычен уже при первом восприятии, и при моем редком в ту пору общении с ним он постепенно втягивал меня в СВОЮ манеру переговоров, демонстрируя хорошую память, широту оценки ситуации и постоянную вдумчиво-стерегущую углублённость, я бы сказал, нюансное мышление.
При этом он был склонен отвлекаться к анекдоту или воспоминанию с точным смыслом, соответствующим обсуждаемой теме, и каждый раз возвращался к исходной позиции, продолжая прерванный разговор.
Параллельно он внимательно следил, как я оцениваю и реагирую на малозначительные фрагменты и смысловые оттенки его речей, что было вдвойне трудно из-за неразборчивой дикции, и был доволен при точной реакции, но при неточном или неправильном понимании он раздражался.
Ухо с ним надо было держать востро…
… К пуску агрегатов Козярский готовился весьма обстоятельно.
– Как начальник пуска, – говорил он между тем, – я провел детальное совещание с исполнителями, поставил задачи, а вскоре меня вызвал Гиндин и сказал, что сам назначил совещание на три часа дня, практически по тем же вопросам. Это было непонятно, поскольку дезавуировало мои функции в глазах тех, перед кем я уже выступал в роли руководителя – или начальника – пуска. Гиндин обещал мне учесть это обстоятельство, однако едва совещание началось, Арон все забыл и начал как обычно. Бителев, что у тебя? И так далее.
После совещания я резко возразил Гиндину против таких методов, и всё стало на место. В дальнейшем он уважал согласованные границы нашего взаимодействия…
Отметим, что значительное время спустя после пуска первых агрегатов Братской ГЭС, а также после нелёгких столкновений с Козярским на строительстве Братского ЛПК Гиндин как-то в частном разговоре признал его правоту во взаимоотношениях с подчиненными руководителями и СМУ, искренне удивился:
– Вы только посмотрите, все они у Вас работают! Как Вы этого добились?
– Арон Маркович, – улыбаясь, ответствовал Козярский, – вспомните пути Ваше¬го роста: ведь стать, главным инженером такой стройки, как Братская, можно было, только пройдя путь главного инженера пусть маленькой, но целиком своей кавказской ГЭС, воспитав на ней психологию хозяина…
Особенностью интеллекта Козярского-руководителя, как я уже отмечал выше, были объёмное восприятие задачи и соответствующий «подсос» необходимой информации под структуру этого объёма, что позволяло ему видеть проблему во всей её сложности и не позволяло увлекаться одной, хотя бы и весьма важной, частью этой задачи таким образом, чтобы упускать из вида другую часть, не менее важную, однако пока не находящуюся на первом плане той же задачи. Эта особенность обеспечила ему большую услугу в дальнейшем, когда он в качестве начальника строительства Братского ЛПК издалека готовил к пуску его первую очередь, однако подготовка к пуску первого агрегата Братской ГЭС тоже была весьма непростой, хотя с подобными задачами или с их частью Козярский встречался и раньше.
…Требовалось своевременно обеспечить готовность временных водоводов и водоприемников, поскольку первые агрегаты вводились на пониженных отметках, что обеспечивало досрочную выдачу в систему дополнительной мощности; надо было подготовить привод гидрозатворов по временной схеме и обеспечить поставку и монтаж необходимого оборудования; надо было сварить спиральные камеры, обустроить шахту турбины и ге-нератора, обеспечить условия для работы ведущих субподрядных организаций – Гидгомонтажа, Спецгидроэнергомонтажа и Гидрозлектромонтажа, проконтролировать ход работ на ведущих монтажных операциях – ревизия трансформаторов, качество высоковольтных вводов, поступление и подработка трансформаторного и кабельного масла, ход монтажа маслонаполненных кабелей 220 кВ, готовность приемкой ячейки 220 кВ, монтаж самой турбины и гидрогенератора, устройство временного шатра – вместо машинного зала, подготовка, в качестве пускового, щита управления генератора, так как центрального пульта ещё не было, наладочные работы – все эти вещи и некоторые другие Козярский прослеживал через исполнителей или напрямую, много работая с руководителями и добиваясь от строителей своевременной подготовки фронта работ монтажникам.
Действуя экономно и точно, Козярский в излюбленной им манере умело поддерживал напряжение в подведом¬ственной ему сети подчиненных, пони¬мая, что идеология руководства как фак¬тора целесообразной работы действует на подчиненного только на определенной временной дистанции – пока подчиненный психологически ощущает руководя¬щий прием начальника
Поэтому Козярский всегда поддерживал дистанцию между собой и людьми, и это касалось всех – и его начальников, и его подчиненных, а также широкого круга людей из подразделений Братскгэсстроя, внешних организаций, партий¬ных и советских органов, с которыми он взаимодействовал постоянно или по случаю – последнее широко имело место позднее в бытность его главным инженером Братскгэсстроя.
В первом случае это было необходимо ему для того, чтобы не попасть в положение исполнителя любого неумного распоряжения и воспользоваться имеющей¬ся дистанцией, чтобы не выполнить это распоряжение,
Во втором случае он, сталкиваясь с недопониманием или неисполнительностью, находил уязвимую щель в психологии такого человека и прицельно, жёсткой насмешкой или язвительным замечанием наносил ему запоминающееся, проникающее ранение, которое потом долго давало себя знать… Люди, по¬павшие под такой укол, в дальнейшем уже не допускали явных промахов и создавали вокруг Козярского сферу повышенной исполнительности к его распоряжениям. При этом они, в основном, понимали его правоту.
И, наконец, держась на расстоянии от посетителей случайных, он стремил¬ся помочь им в тех нечастых случаях, когда дело ограничивалось телефонным звонком или запиской, но когда просьба была невыполнима, он старался убедить этом просителя, не жалея времени. В целом Козярский блестяще справился со своими обязанностями технического руководителя пуска первых агрегатов, значительно расширив при, этом само понятие «технический», хотя порой напряжение пусковых работ перехлёстывало через край…
Раздумывая о его напряженном графике того периода, я спросил, была ли у него машина.
– Тогда нет, – ответствовал Козярский, – к я вспомнил, как однажды он ехал на ГЭС в кузове грузовой машины, уступив место в кабине Анастасии Михайловне Соломатовой.
Я не раз замечал, продолжил он свою мысль, что люди, имеющие закреплённые за ними легковые автомобили, при¬лагают любые усилия для того, чтобы не дать их другим в тех случаях, когда они могли бы сделать это совершенно безболезненно. Надо думать, что наличие машины они оценивали как серьёзную часть своей сущности, и при её отсутствии ощущали себя определённым образом потерянными.
Помню, я как-то попросил машину Шнырова на период его отсутствия – а машиной пользовалась жена.
Оценив ситуацию и зная Шнырова, Гиндин сказал Козярскому: «Он легче откажется от жены, чем от машины…»
Завершая свои воспоминания о горячих пусковых буднях на Братской ГЭС, Козярский вновь тепло отозвался о субподрядчиках – Бителеве, Орле (Гидромонтаж), Веневитинове (Гидромеханизация), Лохматикове (Спецгидроэнергомонтаж), Когане (Гидроэлектромонтаж).
– Отношения с ними были идеальным, это во многом решило успех дела, они всегда относились ко мне как к старшему товарищу…
В 1963 году внезапно встал вопрос о назначении Козярского начальником строительства Братского лесопромышленного комплекса…
…Козярский заговорил об этом с нарастающим интересом, и по ходу нашей беседы он, неоднократно отвлекаясь на другие темы, вновь и вновь возвращался к этому этапу своей жизни, который в известном смысле и мере был критически важным в его работе и в его жизни потому что представить себе жизнь Козярского без дела, без работы было не¬возможно – ведь и сегодня, в своем солидном возрасте, он переживал рабочие пики тех далеких лет с особым захватывающим волнением, забывая о скромных, но важных проблемах сегодняшнего его бытия…
– …Ещё до того, как развивались главные события, которые поставили меня во главе УС БЛПК, Гиндин предлагал заняться там монтажом технологического оборудования. К этому времени я достаточно хорошо представлял себе, каким образом следовало решать такие вопросы, и переговорил с Наймушиным.
Однако Иван Иванович сказал, что предпочитает иметь на этом деле Динзе, заместителя главного инженера БЛПК, весьма способного технолога, хорошо знавшего оборудование. Естественно, я не возражал, и вопрос о моем отношении к БЛПК, казалось, был закрыт.
Но буквально вскоре Наймушин, и сразу же Гиндин, предложили мне идти на должность начальника УС БЛПК. Я понял: что-то произошло, а вскоре всё встало на место. Наймушин принял решение об увольнении прежнего начальника, Исаченко; конечно, предварительно состоялась процедура согласования этого решения с Минэнерго и с обкомом партии, но сразу же понадобилась кандидатура преемника.
По-видимому, это был тот случай, когда стремление избавиться от кого-либо существенно преобладало над желанием иметь подходящего по статьям преемника, и выбор, с учётом этого обстоятельства, пал на меня.
Чтобы исключить мои возможные возражения, Иван Иванович добавил, «на ГЭС можно обойтись и без Вас», а по сути это так и было, потому что каждый следующий агрегат вводился уже достаточно просто и уверенно, на постоянных отметках – был конец 1962 года.
И я понял, что соглашаться придётся, потому что руководители Братскгэсстроя, и прежде всего Наймушин, был намерены иметь со мной дело в дальнейшем только как с начальником УС БЛПК, и у меня не было выбора, я дал согласие.
Интересно, что Носов (начальник Главвостокгидроэнергостроя Минэнерго СССР), не знавший всей этой подоплеки, считал, что должность главного инженера УС БЛПК для меня – лучший вариант.
Конечно, были и другие обстоятельства, которые призывали меня к осторожности и удивлению: управление; строительства Братского лесопромышленного комплекса, комплекса-гиганта, было чрезвычайно крупным строительным подразделением с высокосложной технологией, несопоставимой с технико-технологическими проблемами строительства гидроэлектростанций, а я до этого был чистым гидроэнергетиком.
Кроме того, ход дела на этой стройке контролировался Иркутским обкомом партии и ЦК КПСС, она была особо важной. Эти обстоятельства заставляли предполагать, что мое назначение было условным, ввиду отсутствия готового кандидата, а значит, таковой через некоторое время появится.
Такой ход рассуждений, позволивший Козярскому буквально вычислить своего возможного преемника, свидетельствует не только о его способности к точному логическому мышлению, но и о полном отсутствии каких-либо амбиций, могущих затуманить или исказить концепцию самокритики и реализма, однако не в стиле Козярского была роль мальчика дли битья: он принял вызов и решил мобилизовать все ресурсы личности, чтобы оказаться на высоте предъявленных требований.
Война, так война, – как говорят французы.
События не заставили себя ждать, отметил Козярский. В УС БЛПК в роли начальника СМУ появился Малкович, и по некоторым признакам я догадался, что мне, возможно, предстоит передавать ему дела. Но судьба не была к нему благосклонна – последовал групповой несчастный, случай со смертельным исходом, и участь Малковича была решена. Претендент не состоялся, но это обстоятельство пока не означало для меня серьёзных перемен – просто я получил дополнительное время для того, чтобы люди, имеющие власть, смогли решить, что делать дальше.
Впрочем, были люди, которые положительно оценили моё назначение, к их числу относился Борис Владимирович Поспелов, заместитель главного инженера Братскгэсстроя по гидротехническому строительству. Узнав о моем назначении, Поспелов сказал: «Если таких, как Вы назначают начальниками, – это хорошо».
Поспелов, отметил Козярский, был способным человеком, но ему мешала излишняя амбициозность. Наймушин, принявший решение на определенном этапе расстаться с Поспеловым, заметил как-то, что он «сам себя съел…»
Получив оперативную передышку в проблеме претендента на его должность, Козярский оказался перед необходимостью срочного решения одновременно двух задач – разобраться в главных чертах и в специфике сложных организационно-технических дел по подготовке к пуску первой очереди БЛПК и разрешить вопрос о власти. Эти вопросы были неразделимы – ибо, даже поняв, что надо делать, – а это было непросто, – Козярский не мог действовать, не имея власти; и наоборот, даже добившись власти, он не мог бы действовать, не понимая или недопонимая, что именно и в какие сроки надо делать.
В проблеме власти сложнее всего было с Гиндиным, привыкшим к полной свободе в сфере производства, широко предоставленной ему Наймушиным, оставлявшим за собой право вмешательства лишь в ситуациях аварийных или экстремальных.
Гиндин же, в поисках наиболее эффективной формы влияния на ход дела по строительству БЛПК, пришел к выводу о целесообразности еженедельных планёрок но пятницам, которые длились по нескольку часов, сопровождались длительным и детальным объездом строительных площадок, но приводили к неизбежному дублированию, в отдельных случаях к опровержению решений, принимаемых Козярским, – тем самым фактически поощрялись анархия и безответственность.
Мне уже приходилось упоминать в очерке о встрече с Малковым, об остром столкновении между Козярским и Гиндиным по вопросу о передаче (или непередаче) из УС БЛПК в управление городского строительства СМУ отделочных работ. Гиндин хотел передать СМУ, Козярский же категорически сопротивлялся, вплоть до памятного психологического поединка, из которого вышел победителем.
Конфликты с Гиндиным и теперь, через много лет, Козярский оценивал как крупные.
– Я всегда был против самочинных действий Гиндина в том, что касалось моих функций, – сказал он, – вплоть до главка и ЦК.
Дело дошло до того, что нас с Олонцевым (директор БЛПК) специально вызывали в ЦК КПСС по этому вопросу, и я категорически настаивал на том, чтобы Гиндин прекратил проведение своих планерок.
Я с удивлением слушал Козярского – ведь на месте был Наймушин, который спокойно мог решить этот вопрос, однако тот предпочёл не вмешиваться и даже удержал у себя телеграмму Носова, в которой тот категорически требовал от него, Наймушина, принять меры по невмешательству Гиндина в дела БЛПК.
При этом конечно, и у Козярского были определённые причины не обращаться к Наймушкну по этому довольно щепетильному вопросу, о которых он не упомянул, но которые можно предположить, и главной среди них была та условность его должностного статуса, возможно, ещё имевшая место в сознании Наймушина.
Кроме того, было хорошо известно, что Наймушин не терпел конфликтов между руководителями, весьма негативно относясь к жалобщикам, и он терпеливо ждал, что будет в данном случае, но, конечно, внимательно следил и сам за ходом дела.
Между тем проблема власти решилась в пользу Козярского – Гиндин повредил себе руку и прекратил проведение своих планерок; Козярский мог действовать раскованно.
– Я разделил строительство на 5 комплексов, – рассказывал он, – их возглавляли, в частности, Медведев, Фоменко, Шпак. Предоставил им необходимые права, сохранил хозрасчетную структуру каждого (сначала была большая централизованная бухгалтерия) и потребовал работу.
Это была излюбленная манера Козярского, совпадавшая с принципом Наймушина – «будь хозяином».
Характерно, что Козярский приучил руководителей СМУ и выходящих на него (должностных лиц не обращаться к нему по пустякам или вопросам, которые СМУ и отдельные должностные лица при наличии доброй воли и необходимой лояльности могли решить между собой. Позднее, когда Козярский уезжал в Красноярск, Герливанов, один из начальников СМУ, сказал ему: «Вы заставили нас работать». Это позволило Козярскому разгрузиться от текучки и сосредоточить своё внимание на главных вопросах подготовки к вводу пускового комплекса. Сразу выплыли разные острые точки и проблемы – водозабор, водоводы и водоочистные сооружения, выращивание бактерий в системе биоло-гической очистки, запуск содорегенерационного котла, подъездные пути, наладка приводов сушильных машин и регулировка подачи массы, форсированный ввод электротехнических устройств и ряд других, не менее важных вопросов.
Конечно, подчеркнул Козярский, не удалось избежать кадровых вопросов. Двух начальников СМУ я уволил – в том числе Москаленко.
Разумеется, продолжил Козярский, мои конфликты с Гиндиным не надо понимать как общую систему наших взаимоотношений, хотя я поставил дело так, что всегда мог высказать ему своё мнение.
Дело доходило до курьёза. Как-то в кабинете у Гиндина с его активным участием обсуждалась проблема вахт из Братска на Усть-Илим – для строительства Усть-Илимской ГЭС. Гиндин был в ударе, удачно аргументировал за вахты, а в конце, поняв, что убедил присутствующих, задал, вопрос и мне:
– А Вы, Юрий Константинович, конечно, против?
– Конечно, против, – под общий смех ответил Козярский.
Недалёкое будущее естественно разрешило их спор – Усть-Илимск и вахты были заведомо несовместимы, хотя первое время вахты действовали.
Разумеется, вклад Гиндина в строительство Братского ЛПК был весьма велик, и его нельзя недооценивать, заключил Козярский.
Я имею в виду компоновочные решения, выбор конструкций, материалы перемычек – вообще всё, что было связано с основными проектами и производством работ.
Добавим, что при Гиндине в УС БЛПК была создана специальная группа сетевого планирования во главе с Губайдуллиным и Векличем, которая к каждой планерке уточняла тематику и объёмы работ, выполненные за неделю, и вносила поправки в формулу критического пути, выявляя узкие места.
Козярский, оставшись хозяином после ухода Гиндина, не востребовал сетевое планирование как фактор контроля. Мне уже приходилось упоминать о его критическом отношении к сетевому планированию, хотя он и увлекся позднее программой подряда «Аккорд» и даже ездил в Новосибирск к разработчикам, однако вскоре он остыл к вычислительной технике в этом варианте применения.
Главная причина такого отношения, на мой взгляд, состояла в понимании очень слабой предсказуемости строительного производства и, соответственно, большой его зависимости от случайных сбоев и обстоятельств, которые нельзя было учесть в практической алгоритмике и сетевых расчетах.
В этих случаях Козярский, держа в памяти большой объем текущей информации и сопоставляя отдельные факты и факторы в уме, пользовался своей богатой интуицией и выявлял узкие места в реальном производстве работ, действуя на обстановку направленно, инициативно! и с неизменным реальным, эффектом; и именно эти его действия, освобожденные от шумовой шелухи и будучи направленными на всю сложную структуру причин, сдерживающих производство понемногу преодолевали инерцию огромной системы пускового комплекса, который, набирая темпы, постепенно всё более явственно обретал видимое движение. Эту тенденцию с удовлетворением улавливал Наймушкн – теперь он уже в полной мере, но уже совершенно в новом качестве по сравнению с пусковыми проблемами Братской ГЭС, видел Козярского в победном блеске действительно крупного дела, и ему, Наймушину, уже не требовались какие-либо альтернативные ответственные за ход работ.
Всё, что требовалось Козярскому, немедленно выполнялось, и всё, что ему мешало, безальтернативно устранялось; отношение верховного к Козярскому очень быстро почувствовали первые ру-ководители подразделений, которые четко реагировали на его просьбы, и гигантские возможности Братскгэсстроя, весь его материальный и человеческий потенциал в том объёме, который реально востребовался производством, были необратимо обращены на пуск 1-й очереди БЛПК, который теперь уже был обречён на то, чтобы состояться… Это были звёздные часы Козярского, сумевшего в критический для себя момент, приняв вызов фортуны, вновь повернуть к себе её неверное расположение…
…Козярский помолчал, погруженный в воспоминания, и потом, не спеша продолжал:
– Люди склонны демонстрировать те свои качества, которые от них востребуют – система, в которой мы живем, понемногу формирует людей под себя.
Когда я пришел в УС БЛПК, там, до меня, была обстановка доносов – в определенной мере, по-видимому, это было удобно бывшему начальнику. Но инерции начали ходить и ко мне, но я сразу дал понять, что мне это не надо. Все кончилось само собой, обстановка нормализовалась…
Это была интересная мысль – ведь если бы жизнь требовала от нас только положительных самопроявлений, мы естественно шли бы к самогармонизирующемуся обществу.
Завершая комментарии этого периода деятельности Козярского, следует отметить, что Наймушин зорко следил за общим ходом дел, не вмешиваясь по своему обыкновению в детали, но при и этом он известными ему средствами поддерживал тот дух особости и всемо-гущества Братскгэсстроя, который всегда был воплощен в фигуре его начальника, в той мере, в какой эта фигура своими возможностями и проявлениями, в свою очередь была постоянным источником этого духа, своеобразного многолетнего духовного напряжения.
И если Наймушин усматривал в чём-то непочтительное отношение к Братскгэсстрою с чьей-либо стороны, он жёстко наказывал виновного. Так было однажды с начальником участка Востокэнергомонтажа (ВЭМ) Абрамовым, которому пришлось в то время весьма туго с монтажом технологического оборудования из-за отставания строительных работ. При этом он, как стало известно Наймушину, в грубой форме отозвался о Братскгэсстрое.
Вечером этого дня – то была поздняя осень 1965 года – мне пришлось быть на совещании, которое начал Роман Петрович Носов (начальник Главка), однако следом за ним сразу взял слово Наймушнн – и началось. В адрес Абрамова, пунцовогкрасного, стоявшего навытяжку, посыпался убойный медвежий мат, что было совершенно необычно для Наймушина, который никогда не ругался; остановить его было невозможно, но Абрамов стоически выдержал всё молча. И сел. Никто, ничего, толком не понял, но дальше по ВЭМу не было сказано ни слова, все оберегали пострадавшего и его организацию от любой критики.
Совещание некоторое время по инерции продолжалось, но вскоре все разъехались, о причине разноса узнали готом. Абрамов – за выдержку – остался работать на прежнем месте, но все те, кому это следовало знать, получили мощное напоминание: честь и достоинство Вратскгэсстроя никому не позволено задеть…
С завершением пуска 1-й очереди Братского лесопромышленного комплекса в жизни Козярского наступил новый этап: Бочкин давно и усиленно добивался его перевода на должность главного инженера Красноярскгэсстроя, начальником которого Бочкин был назначен после Иркутска. В то время главным инженером Красноярскгэсстроя был Коротков, который тяжело болел и, по-видимому, уже не мог вернуться к исполнению своих обязанностей; поэтому независимо от исхода переговоров Ко-зярского с Бочкиным он не был намерен ехать в Красноярск по этическим соображениям, тем более и потому, что ему хорошо работалось в Братске.
– Дело дошло до министра, и мне пришлось, – продолжал тему Юрий Константинович, – подумать о переезде всерьёз, встретиться с Бочкиным, с которым не срабатывался уже третий главный инже-нер (первым был Кирилл Иванович Смирнов, ранее работавший в Братске).
– Зачем Вы добиваетесь моего перевода в Красноярск? Ведь Вы не даете власти главному инженеру, – этот вопрос Козярский задал Бочкину при первом разговоре. – Я соглашусь только при условии Вашего невмешательства в производство. Бочкин тут же дал согласие.
В Москве Сапир, главный инженер Главка (у Носова) предложил мне ехать в Красноярск, а Сердюков, заместитель министра по кадрам, сказал, что будет оформлять приказ о моем назначении на должность главного инженера Красноярскгэсстроя.
…В Красноярске я сразу же появился в крайкоме партии, там Бочкина знали хорошо, в том числе и по его взаимоотношениям с главными инженерами, и обещали мне поддержку.
Особенно хорошее впечатление у меня осталось от разговора с секретарем крайкома Кокоревым, он обещал прямую поддержку – при необходимости. Началась работа.
Здесь следует добавить, что, будучи в составе номенклатуры Иркутского обкома партии, я побывал там перед отъездом в Красноярск. Коцуба принял меня хорошо – и выразил сожаление, что я уезжаю; Щетинин ограничился телефонным разговором…
После Братска работа в роли главного инженера стройки в период подготовки к пуску гидроагрегатов не представлялась Козярскому чем-то новым – агрегаты побольше, но все на постоянных отметках. Недалеко большой город, сложившийся коллектив, те же основные субподрядчики, налажены внешние поставки.
– Сложнее оказались, как я и ожидал, – отметил Юрий Константинович, – мои взаимоотношения с Бочкикым, который в первый год работы держал своё слом, но на второй начал вмешиваться в мои дела.
В это время Бочкину исполнилось 60 лет, и Непорожний хотел отправить его на пенсию со всем сопутствующим почетом: Бочкин вначале был не против, а потом, когда дошло до дела, обратился и к Кириленко (ЦК КПСС) – и получил поддержку… Я понял, что это надолго, и начал думать об уходе; в это же время у меня состоялся разговор с Наймушиным, который предложил мне должность, главного инженера Братскгэсстроя, так как Арон Маркович Гиндин после сдачи в эксплуатацию Братской ГЭС уехал и Москву, где потом продолжительное время работал в Госкомитете по науке и технике.
Я тут же дал согласие…
Особенности взаимоотношений Бочкина и Козярского в период, предшествующий отъезду в Братск, характеризовались нарастающим взаимным неприятием. В частности, Бочкин мог позволить себе дать команду о предпаводковом наращивании перемычек на полсуток раньше, чем срок, уже назначенный Козярским (см. выше); или, когда при пуске генератора сгорел подпятник, что неоднократно бывало и в Братске, и спокойно преодолевалось в рабочем порядке, Бочкин не постеснялся сказать в крайкоме партии, – дескать, вот, следил за всем сам, но упустил момент – пожалуйста, авария…
Эта авария имела цену одного телефонного звонка Козярского в Братск И. С. Глухову, главному инженеру Братской ГЭС, с просьбой передать Красноярскгэссгрою насос высокого давления для подачи масла во внутреннее пространство подпятника с целью ускорения образования масляной ванны при наборе оборотов генератора, что и было сразу же сделано.
Не нравились Козярскому и дилетантские проявления Бочкина, который звоня ему с курорта, мог попросить его прислать местные газеты, и это уже после обстоятельного разговора по сути дела: такие побуждения Козярский расценивал как пустое любопытство и показуху, имевшие целью лишний раз подчеркнуть озабоченность Бочкина мнением прессы по делам стройки даже во время отдыха; эта озабоченность, несла в себе и компонент недоверия к полноте информации Козярского. Были и другие моменты, и все они, звено к звену, означали только одно: союз Бочкина и Козярского исчерпал себя, надо было кончать…
…Козярского долго не отпускали из Красноярска, возражал крайком партии – не было преемника, а Братскгэсстрой не намерен был ждать. Дело дошло до ЦК партии, вопрос был, наконец, решён, и Бочкин не здоровался с Козярским в этот период…
Переход в Братск сопровождался для Козярского крупным переосмыслением себя в новой, наиболее высокой в своей жизни должности, выше которой ему уже не суждено было подняться, да и не стремился к этому, хотя если бы позднее об этом встал вопрос, – он дал бы согласие.
Дело в том, что одинаковое название должностей, на которых он работал теперь в Братске и ранее в Красноярске, на деле несло в себе совершенно разный смысл, потому что Братскгэсстрой уже в тот период был несопоставим с Красноярскгэсстроем и по масштабу, и по характеру задач, и по перспективам загрузки.
Поэтому Козярский, следуя своим давно сложившимся убеждениям, взял решительный курс на отход от оперативного, непосредственного руководства строительно-монтажными работами, на чем пытался строить свою работу Трахтенберг, его временный предшественник по занимаемой должности.
Выше я подробно упоминал о Трахтенберге, и здесь не было бы смысла повторяться, если бы не была столь разительной разница в поведении и методах работы Трахтенберга как исполняющего обязанности главного инженера Братскгэсстроя, и Козярского, назначенного на эту должность постоянно. Я думаю, что одно время Трахтенберг примеривал на себя функции главного инженера для длительного варианта и пытался осмыслить прежде всего внешние параметры своего поведения – как он их понимал – для этой должности. При этом он явно требовал повышенного внимания к себе и своим указаниям против того, что было приемлемо для него ещё вчера; ему казалось, что создание нового, более весомого имиджа достигается столь простыми и, главное, прямыми методами, и он действовал с прямолинейной требовательностью и нарастающей грубостью, настораживая вчерашних знакомых и не наращивая авторитета во внешнем мире…
Становилось ясно, что его хамовито-оперативная риторика, которую он порой хотел выдать за доводы, и глубоко устоявшиеся стандарты мышления и поведения пришли в полное противостояние с тем, что могли бы ожидать от главного инженера Братскгэсстроя местные круги партийно-советского руководства и братскгэсстроевского «истэблишмента», как можно бы здесь сказать; а последний во все времена характеризовался весьма высоким уровнем, и это при неспособности Трахтенберга к научаемости и переосмыслению своей позиции по большому счету…
Обосновавшись в кабинете Гиндина, Козярский довольно длительное время знакомился с людьми, ранее ему известными, но возглавлявшими другие службы или те же, что и при нем, но не в его сегодняшней роли, выявляя для себя, чем они конкретно занимаются, составляя при этом их номинальные функции с фактическими действиями; выявляя их влияние на производство, если таковое было, их взаимоотношения с внешним миром, и понемногу выкладывал людей в свою внутреннюю картотеку, постоянно углубляя своё мнение о них, понимая все лучшие возможности каждого и создавая вокруг себя тот активный слой, который становился для него необходимым при взаимодействии с внешним миром.
Я оказался в числе тех, кто попал в этот слой, тем более, когда выяснилось, что мое личностное совпадение с отдельным гранями личности Козярского давало мне шанс на несколько особые отношения с ним, о чем я упоминал выше.
Теперь, глядя в прошлое с большого расстояния, я понимаю, что Козярский был интересен для меня всегда, хотя мне и случалось принимать от него весьма неприятные и жёсткие замечания….
Периодически видя его в разных ситуациях – в личном диалоге, на небольших или больших совещаниях, в телефонных репликах, в редактировании писем, которым он занимался с предельной въедливостью вплоть до запятой, – я отмечал про себя, как тщательно и виртуозно – незаметно для присутствующих – он формировал свою позицию, адекватную данной ситуации, искал и находил неожиданные и неотразимые аргументы, интегрируя при этом мнения присутствующих, и с блеском заключал дискуссии точными и абсолютно реальными предложениями.
Вместе с тем приемы Козярского таили в себе серьёзный недостаток, проявлявшийся с годами все больше как оборотная сторона его преимуществ – это была его небольшая и снижавшаяся со временем пропускная способность.
Годы понемногу брали своё, хотя он хорошо сопротивлялся их разрушающему влиянию. Пробиться к нему на прием, было непросто, но те, кому это удавалось, как правило, были довольны. Конечно, руководители подразделений попадали нему достаточно легко, однако вопросы, которые их интересовали, во многих случаях относились к функциям и компетенции Наймушина; и Козярский в этих случаях, точно соблюдая субординацию, давал свою оценку ситуации или, уже реже, специально оговаривал эти вопросы с начальником Братскгэсстроя.
Как я понимал, эти его особенности постепенно входили в противоречие с методами Наймушина, который никогда не тянул с вопросами, по-настоящему требующими решения.
По-видимому, эти обстоятельства привели Наймушина к необходимости иметь ещё одного, но более оперативного помощника на высоком уровне – необходимости, которая привела к выдвижению Аркадия Федоровича Морозова на должность заместителя начальника с одновременным отделением приставки «зам» от наименования должности Козярского.
После Красноярска Козярский проработал в Братске несколько более 10 лет, половину из них при Наймушине (1968-1973 гг.). Далее в права начальника вступил Семёнов.
Естественно, Козярскому понадобилось время для того, чтобы вновь, на этом важном этапе своей жизни и работы, приспособиться к Наймушину, поскольку всё, что относилось непосредственно к исполнению его служебных обязанностей, можно было построить только с учетом всей сути и специфики отношений с первым лицом стройки – это было исходным, главным условием любой успешной работы.
Решению этой задачи Козярский посвятил много душевных сил, тем более, что ему пришлось совсем недавно заниматься такой же проблемой с Бочкиным; поэтому неоднократно, обсуждая самые разные вещи в наших долгих беседах, продолжавшихся два дня, Козярский вновь и вновь сопоставлял двух этих выдающихся людей.
Близкие соприкосновения с ними, как видно, неоднократно вызывали у него, острую реакцию; они действовали на него, как наждачные круги на полосу из специальной стали – летели искры, но постепенно формировалось то лезвие, которое уже не нуждалось в обработке.
Впрочем, как и другие жизненные испытания, выпавшие на его долю, взаимодействие с Бочкиным и Наймушиным формировало по высшему классу чувство безопасного реализма – ничто не снимало с него ответственности за дело, однако делать это дело нужно было рационально и точно, не вызывая лишних и ненужных эмоций со стороны верховного.
При всем том Козярский оценивал Наймушина неизмеримо выше Бочкина по всем параметрам личности.
В отличие от Бочкина, Наймушин никогда не считал инжерено-технических работников бездельниками и трутнями, по сравнению с рабочими, с целью дешёвого популизма, хотя и позволял себе жестковатую иронию по отношению к работникам аппарата управления, преимущественно – женщинам, это у него было.
Вместе с тем в его природе, в самой основе его существа было заложено глубокое уважение и почитание профессионализма…
Я думаю, что это уважение наряду с особым чутьём на людей-профессионалов или людей, способных ими стать – будучи фундаментальными свойствами его натуры и лежали в основе его таланта руководителя.
В начале войны, при подготовке оборонительных артиллерийских позиций под Москвой, Иван Иванович Наймушии, как горный инженер, руководил работами на одном из участков будущего фронта. Проект, по его мнению, был неудачен, и не обеспечивал резервирование секторов огня в противотанковой обороне – по этой причине он выдвинул другое предложение и тут же дал команду делать по своему варианту; работу закончили в срок…
…При объезде позиций ответственный представитель ГКО и партийного контроля обратил внимание на отклонение от проекта.
Вызвали Наймушина… Его попытки что-то объяснить ничего не дали – ему просто не дали говорить и отдали под трибунал, который тут же приговорил его к расстрелу…
На его счастье буквально на следующий день те же позиции объезжал представитель фронтового командования, артиллерист по специальности, который высоко оценил, творческий подход тех, кто здесь поработал, к своему делу, потребовал к себе Наймушина, которого ещё не успели расстрелять, и объявил ему благодарность. Решение трибунала, естественно, было отменено.
Убежден, что этот случай, едва не ставший трагедией, столь характерной для звериной системы отношений в вертикальных структурах царствующей системы, особенно в военное время, эти два решения, между которыми целую ночь находилась его жизнь, и эти два человека, принявшие их, – партийный бюрократ-чиновник и высококвалифицированный военный профессионал, сумевший дать свою, личную, оценку поступка Наймушина и отменивший, не дрогнув при этом, тупопослушное решение трибунала, навсегда заложил в психологии Наймушина органическую ненависть к бюрократизму и властвующей бюрократии, не знающей дела по-настоящему, и то глубокое уважение к профессионализму и профессионалам, которое он проявлял всю жизнь.
– Дилетанты, – порой скрипел он по поводу легковесных людей, которых он не воспринимал всей своей сутью.
Вместе с тем этот случай внушил ему пожизненное глубочайшее уважение к решению и поступку, и к людям, способным принять это решение и отстаивать в любом положении, – это качество он определял как главное при оценке человека.
…Наймушину стало ясно, что система может покарать или вознести за одно и то же; поэтому, выбрав для себя путь трудных решений, в согласии с могучим динамизмом своего неукротимого характера, Наймушин вместе с тем проявлял высокое искусство в построении своих взаимоотношений с высшими представителями системы, которые, будучи надёжными, давали ему свободу на местах от попытки диктата или назойливости со стороны местных царьков.
…Бочкин не сумел бы поднять Братск, уверенно говорил Козярский, ведь в начале строительства в Братске творилось чёрт знает что… В Зелёном действовала шайка…
И Козярский рассказал мне случай, о котором я слышал однажды, но до этого разговора ни от кого не слышал подтверждения. Теперь прошли годы, мне не известна ни одна фамилия из тех, кто принимал участие в этой операции, и лишь один человек, руководивший ею – Александр Степанович Южаков, – уже давно похоронен на Кобляковском кладбище. Пришло время, когда правду можно сказать…
…Итак, в палаточном городке Зёленом действовала наглая и жестокая банда, которая грабила палатки одну за другой в период, когда люди были на работе. В Зелёном создалась обстановка террора, люди начали отказываться ходить на работу, главное дело Братскгэсстроя было поставлено под угрозу.
В этой обстановке Наймушин вызвал к себе Южакова.
Передавали, что разговор у них был короткий: «Ты воевал, – сказал Иван Иванович, – вот и покажи, что ты умеешь. Бери людей и все необходимое, а я тебя прикрою.» Все как на фронте!…
Южаков был на фронте комиссаром полка, и ему не надо было растолковывать эту задачу более подробно.
…Собрали бывших фронтовиков и просто крепких, бывалых ребят, вооружили их подручными средствами; за бандитами вели слежку и, выждав момент, ворвались в палатку… Пленных не брали, это был бой да уничтожение. Когда все кончилось, в машину погрузили двадцать трупов и увезли в неизвестном направлении. Разбои и грабежи прекратились, вокруг этого дела сохранялась многолетняя тайна. Как-то будучи в Москве, еще при жизни Южакова, я задал ему этот вопрос – было ли, Александр Степанович?
– Не было, – ответил он; не будем тревожить покой мертвых. Южаков был прав и тогда, когда бил бандитов, и тогда, когда сказал «нет…»
Козярский не знал, что во главе группы ликвидации стоял Южаков, но счёл, что это было вполне возможно. Этот случай требует специального анализа, так как вызывает вопросы. Во-первых, почему этим не занималась милиция? Ответ простой – её просто не было в требуемой численности, да и действовать на уничтожение она не имела права; поэтому в те времена Братскгэсстрой все свои проблемы решал сам.
Далее, почему их не взяли живьем и не организовали суд? Можно лишь предполагать, что такая операция отвлекли бы у Братскгэсстроя много сил и средств на процедурные вопросы, и внимание стройки с основных сооружений переключилось бы на криминал, это создало бы к тому же неважную рекламу для Братска и поставило бы под удар главную задачу.
Возникшая обстановка однозначно диктовала необходимость применения крайнего решения, и Наймушин в очередной раз принял вызов судьбы…
Разумеется, он брал на себя при этом всю меру ответственности на случай, если бы тайна перестала быть таковой; несмотря на принятые меры, слухи о событии уже поползли, и Бочкин, стремив-шийся в Братск, уже потирал руки (это Козярский отметил), но дальше слухов дело не пошло.
Бочкин, уверенно констатировал Козярский, никогда не принял бы такого решения: он прошел комсомольско-партийную школу деятельности, а в этой среде не принято отвечать за свои решения напрямую, если бы такой риск возник.
Трудно, да и попросту невозможно дать однозначную оценку этому решению Наймушина, даже сегодня – через много лет, тем более, что нет ни участников, ни свидетелей, но несомненно величие самого поступка, потому что все, причастные к нему – и тот, кто принял решение, и те, кто непосредственно выполнили его, – действовали во имя высших интересов народа.
И сегодня, когда криминогенная обстановка становится экстремальной, причем её обострение спокойно соседствует с идеями гуманизации общества, которые почему-то трактуются как либеральное отношение к наглеющим преступникам, и государство всё более обнаруживает свою неспособность адекватно реагировать на рост преступности, а люди начинают бояться улицы, я думаю, есть все основания вернуться к опыту прошлых лет и призвать к решению вопроса, вместо того, чтобы публиковать описания уличных происшествий как письма с фронта…
Наймушин и Бочкин не терпели друг друга, хотя внешне и на людях проявляли взаимную благопристойность, но в частных разговорах, Козярский прокомментировал это с юмором, Наймушин называл Бочкина пьяницей, а Бочкин Наймушина – лавочником.
В этих выражениях они, изредка и издалека, порыкивали друг на друга.
– Мне с Наймушиным работалось хорошо, – продолжал Козярский. – Конечно, он пил, и это в отдельных случаях его не красило… Помню, как-то на очередной конференции в УС БЛПК, в бытность мою начальником, я, зная, что он обязательно будет, дал команду в буфет заменить водку водой, засмеялся Козярский. Надо было видеть выражение лица Ивана Ивановича. Лоторева я строго предупредил – никакой водки, и когда Наймушин буквально взял его за грудки, тот признался: Козярский запретил. Тем не менее за водкой послали машину, и мне потом пришлось напрямую порекомендовать ему поехать домой. Наймушин выполнил эту просьбу-рекомендацию…
Или ещё забавный случай, чтобы исчерпать эту тему. Как-то я открыл свой шкаф в рабочем кабинете и обнаружил там довольно много пустых бутылок из-под коньяка… Уборщица унесла их, но через некоторое время, они появились снова и я, конечно, догадался об их происхождении.
Незадолго до этого в Братск к Янину приезжал какой-то грузин за лесом и поставил презент – ящик с коньяком. Леса ему не дали, а коньяк оставили у себя.
– Учитывая, что Клавдия Георгиевна, особенно в последние годы, ужесточила контроль за питейными увлечениями Ивана Ивановича, он решил, что пустые, бутылки удобнее хранить в моем шкафу, – смеялся Козярский. – После второго раза я сказал уборщице, чтобы она перенесла бутылки из моего шкафа в его кабинет, и бутылочные фокусы прекратились…
Добавим к этому, что при несомненном пристрастии Наймушина к выпивке никто и никогда прямо или косвенно не называл его пьяницей – слишком велик был масштаб этого человека, уважение к нему, слишком очевидны и впечатляющи были результаты его работы, слишком много по большому счету он сделал для Братска и для людей.
– Он был человеком больших страстей, горячо переживал вновь то дорогое, что когда-то запало ему в душу; Сгибнева, – отметил Козярский, – как-то говорила, что он плакал в театре (Ирина Федоровна Сгибнева была секретарем Братского ГК КПСС). Известно, что в узком кругу он иногда пел.
Наймушин всегда был самим собой, и поэтому был органически неспособен вести себя «на публику», что было, по-видимому, необходимо, когда имеешь дело с корреспондентами. Наверное, поэтому он не любил общаться со средствами массовой информации и однажды, записываясь на телевидении, буквально довёл всех до ручки, напрочь отказавшись от съёмки дубля…
Козярский задумался, подводя итоги своих воспоминаний о Наймушине, по-видимому всё, что было в его душе связано с этим человеком, оставило глубокий пожизненный след и во многом по-влияло на главные черты его личности, хотя сам он приехал в Братск уже как сформировавшийся человек и специалист.
– Вместе с тем, – задумчиво завершил он «наймушинскую» часть своих воспоминаний, – я никогда не стремился быть рядом с ним без необходимости… Помню, во время фронтального перекрытия Ангары в 1959 году он предложил мне поехать вместе с ним в котлован, но я сказал, что в дела по перекрытию не за-действован, «чего я буду примазываться?» Наймушин, как мне показалось, оценил мой ответ.
Помолчав, он снова вернулся к вопросам взаимоотношений с партийными органами и их лидерами, – эта область общения была для него проблемой пожизненной и весьма важной, она многое означала в реальной работе тех лет для человека, желающего делать дело и преуспевать в обществе, а Козярский, естественно, стремился к этим постоянным целям.
…В период подготовки к пуску первых агрегатов Усть-Илимской ГЭС мне пришлось поработать с Мальцевым, тогда секретарем парткома управления строительства гидроэлектростанции, продолжил он эту тему.
Мне удалось тогда направить его энергию в нужное русло, и дело этого только выиграло…
Я вспомнил, что Мальцев и взаимоотношения с ним были весьма непросты у Яценко, когда он был назначен начальником управления строительства после Герасименко. Мальцев явно не хотел считаться с Яценко – Герасименко обратил на это внимание; и, уже работая в гидротехническом отделе Управления Братскгэсстроя, Герасименко имел на этот счёт беседу с Мальцевым, однако изменить он ничего не смог.
…Отношения между двумя людьми наконечном итоге почти никогда не бывают отношениями равных, причем иерархия их отнюдь не всегда вытекает из соотношения их должностей…
Это обстоятельство в свое время подметил еще Наполеон, определивший любой договор между двумя людьми как соотношение между всадником и лошадью.
Два человека соприкасаются и входят в взаимоотношения, как два шара разной твёрдости и упругости, и тот из них, который после «расстыковки» оказывается целым, становиться лидером и сохраняет свою личность, а второй, соответственно, испытывает частичное изменение или даже разрушение своей личности.
Впрочем, если продолжить эту аналогию с использованием теории сопротивления материалов, учтём, что деформации-изменения могут быть упругими и разрушительными… В первом случае союз двух людей оказывается устойчивым, во втором он может нарушиться…
О Мальцеве я уже упоминал в комментариях к воспоминаниям Семёнова… В связи с предыдущими рассуждениями можно сказать, что характер Мальцева, сформированный в жёстких традициях партийно-иерархических подходов, был настроен на безусловное выполнение любых исходящих сверху партийных директив или постановлений и соответствующее фронтальное подавление любых возражений этим директивам, которые могли возникнуть в нижних звеньях иерархии. Поэтому противостоять этому давлению мог человек с очень жесткими личными психологическими установками, построенными на неотразимой логике крупных задач и интересов производства.
Конечно, надо было при этом сформировать, нужные концепции и должным образом преподнести их в том обществе, которое было признано принять соответствующее конкретное решение.
… Выше я уже говорил, что Козярский постоянно демонстрировал свое умение противостоять стадному эффекту популистских формулировок на различных собраниях, если усматривал их вред в конкретных случаях; добавим к этому, что его искусство состояло в последовательном накоплении того положительного заряда, который, разрядившись, работал бы на его концепцию, но при этом он преподносил эту свою концепцию преимущественно как уточнение всего того, говорилось на собрании, понимая, такой подход всегда дает присутствующим право лишний раз убедиться, они оказывается, в действительности значительно умнее и проницательнее, чем они чувствовали себя до выступления Козярского и чем они были в действительности… Конечно, такие ходы отлично действовали на психологию партийных деятелей, которые, подводя итоги выступлениям, охотно ловили блесну, брошенную Козярским, присоединяясь его выступлениям и преподнося их как ведущую роль партийных организаций и их самих, лидеров этих организаций.
Аналогичным качеством личного влияния Мальцева пользовался и Герасименко – здесь такое соотношение личностных возможностей работало в его пользу.
В отдельных случаях Козярский, глубоко понимавший значение некоторых стереотипов, сложившихся в партийной среде, за которыми мог скрываться очень широкий смысл, пользовался этим обстоятельством, спасая людей. Ведь хорошо известно, что парткомы, вытаскивая кого-то с отчётом на свои заседания, часто скрывали под этим форму расправы с человеком.
Один раз в УС БЛПК я присутствовал на заседании парткома, которое вел Блохин, где стоил вопрос об исключении человека из партии, чего можно было бы легко избежать, вспоминал Юрий Константинович. Когда в адрес этого человека прозвучала соответствующая критика и слово предоставили Козярскому, который был членом парткома, он выступил с осуждением провинившегося и сказал в заключение, что «мы в своем кругу уже предварительно обсудили этот случай и дали ему партийную оценку…» Все почувствовали предельное внимание, потому что понятие «партийной оценки» в практике работы правящей партии всегда имело карательный смысл широкого профиля, причем о конкретных мерах – чем же именно наказать проштрафившегося – говорилось не всегда, и этим блестяще воспользовался Козярский. Насладившись впечатлением лёгкого шока, которое произвела на присутствующих его «партийная оценка», особенно Блохина, Козярский четко завершил партком, предложив ограничиться обсуждением, что и было принято.
Комментируя этот прием, Козярский неудержимо смеялся – в самом деле, эффект был разительный, потому ход был точный и сильный.
Конечно, были и другие, не столь радужные контакты. В период подготовки к пуску первых агрегатов Усть-Илимской гидроэлектростанции, который Козярский практически возглавил и сумел блестяще обеспечить выполнение этой задачи в 1974 году, на Усть-Илим как-то приехал инструктор ЦК КПСС, который, выслушав всех выступавших и оценив ход событий, сказал Козярскому: «Знаете, пуск сегодня – это самое важное», не дрогнув ни одним мускулом, Козярский ответил: «Хорошо уже то, что я хоть сегодня, узнал об этом».
Оторопевший цекист, опомнившись, стал собирать на Козярского компромат, однако время было не то, и возможности методов были не те. За Козярским стояли и действовали в его пользу крупные дела и устоявшийся авторитет.
…Внимание Козярского естественно переключилось на устьилимские темы, и он отметил, что в своё время ему пришлось потратить немало сил на то, чтобы перенести срок пуска первых агрегатов 1975-го на 1974-й год, поскольку в ином случае пришлось бы совместить пусковой период на Усть-Илимской гид-роэлектростанции с развёртыванием работ на Усть-Илимском ЛПК, об этом я уже упоминал в одном из очерков.
Дело дошло до коллегии Минэнерго, которая не была склонна форсировать досрочный ввод мощностей по своим соображениям, однако Козярский настоял на своём, чем вызвал недовольный вопрос Министра:
– Я понимаю Наймушина, когда он хочет иметь досрочный пуск, готому что он политик, но Вам-то это зачем?
Тем не менее, глядя в прошлое сегодня, можно сказать, что расчет Козярского вполне оправдался, позволив распределить во времени пик наращивания работ на Усть-Илимской площадке, облегчить положение с жильем и обеспечить естественный отток рабочих и ИТР со строительства ГЭС на объекты лесо-промышленного комплекса.
В развертывании объектов этого Комплекса, которое непосредственно возглавил новый начальник Братскгэсстроя Александр Николаевич Семёнов, Козярский принимал уже прогрессивно слабеющее участие. Он съездил и командировку за границу, в страны СЭВ, заключившие совместное соглашение о строительстве Усть-Илимского ЛПК на компенсационной основе, познакомился с заводами-изготовителями строительных кон-струкций и вообще – с реальными возможностями этих стран выполнить подписанные ими обязательства, провел в Братске и в Усть-Илимске ряд тематических совещаний и, по-видимому, понял, что развернуть и завершить эту огромную работу ему уже не суждено…
Козярский помолчал и поинтересовался, какие ещё вопросы представляют для меня интерес, и я попросил его рассказать о людях, о которых ему захочется вспомнить в оставшееся незначительное время, которое ещё было в нашем распоряжении, и он, с моим участием, стал вспоминать старых товарищей и знакомых, отмечая характерные, наиболее запомнившиеся ему особенности этих людей; при этом он прибегал, по возможности, к щадящим формулировкам и оценкам, которые, тем не менее, были построены на объективной основе.
…Чайковский был слабый главный инженер… Он хорошо говорил, но не обеспечивал соотношение слова и дела, иначе он не попросился бы в отпуск за 3 месяца до пуска Усть-Илимской ГЭС…
Ротфорт был добросовестный работник, но несколько разбросанный…
Веклич все-таки был упрям…
Скурковин – я к нему всегда, хорошо относился…
Хахамович – умница, на голову выше других экономистов, общаться с ним было большое удовольствие…
Логвинов хорошо знал свое дело, но был несколько мелковат. Большой удачей он считал, например, если случится надуть смету и одновременно – заказчика. Я как-то запретил ему это жульничество…
Щербина – вдруг вспомнил он, – компетентность нулевая. Предпочитал выдвиженцев из партийно-комсомольской среды, поскольку сам прошел такую же школу…
…Николаев – я, по-видимому, недооценивал его. Он порядочный человек, мои личные отношения с ним я оцениваю как деловые и хорошие. Когда я ушел из Братскгэсстроя и, соответственно, уже не соотносился с ним служебным образом, – он, тем не менее, помог мне в Киеве с пропиской… То, что произошло с ним, может вызвать лишь сожаление, и я не думаю, что в его действиях в те времена было что-либо, не обусловленное интересами производства. Я рад, что у него сегодня все хорошо…
…Гиндин действовал смело, он сформировал отличный инженерный корпус, постоянно направлял проектировщиков и следил за их работой. Тем не менее, при всем этом у него была склонность к финтам. Так, при рассмотрении проекта разделительной дамбы, формирующей акваторию морского порта БЛПК, он сначала заставил проектировщиков заменить грунт бетоном, а потом порекомендовал своим дать рацпредложение, имеющее обратный смысл. Моральные потери от таких штучек гораздо весомее, чем значение частного выигрыша в деньгах, который очень скоро будет забыт… Конечно, это штрих к портрету, но о нём следует помнить, говоря о Гиндине…
В моем общении с Козярским он неоднократно обращался к теме евреев, я помню личные его замечания в этой связи по прошлым встречам; видимо, сама тема имела для него вполне прикладное значение, и мне в жизни тоже приходилось немало встречаться и работать с евреями.
Он отмечал, и я был согласен с ним, что расовые признаки и качество наследственности наиболее устойчивы у евреев и у людей монголоидного типа. Видимо, поэтому евреи, совершив в свое время исход из земли обетованной и расселившись по миру, сохранили наиболее полно свою диаспору – свои традиции, свою культуру, религию и свою специфическую идеологию, направленную на достижение гарантированного выживания в среде того народа, на территории которого они расселились.
Евреи умны и хитры, многие просто талантливы, энергичны и властолюбивы, и русским, в среде которых они живут, следует признать и приветствовать эти качества в той мере, в какой они способствуют общему росту благосостояния и процветания народа в целом, и определенным образом ограничивать их властолюбие в той мере, в какой оно, это властолюбие, направляется – если направляется – на захват командных позиций в обществе с целью эксплуатации его ресурсов, степень которой может превысить их полезность для общества…
Тупая, черносотенная ненависть к евреям, проявляющаяся порой в нашем обществе, так же омерзительна и деструктивна, как и попытка Троцкого в свое время провернуть декрет Советской власти о создании еврейскому населению нашей страны законодательных преимуществ.
Время и век, в который мы живем, призывают нас, русских, к проявлению всех своих талантов и способностей, и если мы не примем этот вызов времени и других, хорошо живущих, народов – у нас нет перспектив. Вместе с тем никто и ничто не создает нам помех, и наши неудачи на этом пути, если они по большому счету произойдут, явятся следствием только нашей лени и национального чванства… Вперед, Россия!..
…О Марчуке, конечно, не в связи с еврейским вопросом, мы поговорили поподробнее.
Когда у Герасименко случился паралич руки, сказал Козярский, я порекомендовал назначить Марчука исполняющим обязанности главного инженера, Управления строительства ГЭС, Брюханов был назначен исполняющим обязанности начальника. Через некоторое время, однако, стало ясно, что Марчук нацелился на Москву; перед отъездом он зашёл ко мне попрощаться, и я посоветовал ему, для повышения профессионализма, пройти до конца эту стройку, что позволило бы ему получить достаточный практический опыт.
Марчук улыбнулся и ответил:
– Юрий Константинович, это же романтика.
Мы поговорили еще некоторое время об Усть-Илиме, и Марчук сказал, что его работа на КБЖБ, где он был главным инженером, и тем более – в техинспекции Братскгэсстроя, – была курортом по сравнению с тем, что ему пришлось делать на Усть-Илиме, в качестве главного инженера крупного генподрядного строительного управления…
Я думаю, отметил Козярский, что и Наймушин, и Гиндин оценивали положительные качества Марчука, его профессиональные способности, но в их отношении к нему всегда присутствовал его партийно-родословный колорит, так как сам Марчук был родственником Гурия Марчука, президента АН СССР, а отец его жены – Натальи был крупным партийным работником. Конечно, его способности и служебно-выходные данные, работа в Братскгэсстрое на ответственных должностях, отмеченных в трудовой книжке, сыграли свою существенную роль в его выдвижении, однако несомненно и то, что люди с аналогичными и более впечатляющими служебными характеристиками, но не имевшие такой родословной, не попали бы в кандидаты на столь высокий партийный пост.
Я думаю также, что и Наймушин, и Гиндин рассматривали пребывание и работу Марчука в Братскгэсстрое как факторы временные, обеспечивающие ему, тем не менее, с помощью широко привлекаемой прессы, что он умел делать мастерски, имидж человека с большим значением, чем это было в действительности, причем это делалось помимо воли руководителей Братскгэсстроя, привыкших считать себя хозяевами всего того, то происходит в Братскгэсстрое, тративших много сил на создание особого облика Братскгэсстроя и Братска в интересах дела, которое они почитали и делом своей жизни, с удивлением взиравших на то, что этот облик, созданный их усилиями и талантом, эксплуатируется ещё кем-то – и в своих собственных целях…
Эта информация о Марчуке навела меня на воспоминания и размышления об этом человеке – незаурядном, интересном и в чём-то одновременно настораживающем…
Теперь, когда время и обстоятельства позволяют углубленно подумать о нём таким образом, чтобы сложилась единая концепция его личности, возникает образ малоуловимого человека, который, присутствуя и действуя где-либо по определённому поводу, одновременно являл собой и ряд других измерений, в одно которых, если так сложатся обстоятельства, он всегда мог упорхнуть, как АЛИСА в свое Зазеркалье…
Наиболее известен и привлекателен для ветеранов старого Братска образ обаятельного, крупного и сильного парня с гривой темных волос и черными щелками глаз, состоящих из одних зрачков, играющий на гитаре – играющий мастерски, стоя на борту катера или парома; тут же Братское море, от души подпевающее в лучах солнца и под плеск волн этому заведомому покорителю женских сердец. Около него всегда вились девчонки, с которыми он, впрочем, обращался обворожительно-сдержанно… Чтобы продолжали обожать – и не уходили.
Это, был романтик моря и льда, в унтах и голый по пояс под зимним солнцем, с ледорубом в руках, который в промежутке между двумя скважинами во льду читал Вознесенского, бросая вызов холоду, но когда пришел срок и Козярский предложил ему побыть на Усть-Илиме ещё, побыть для дела – он это дело назвал романтикой и одновременно тем самым дал оценку прежнему образу Марчука, играющего на гитаре. Где же настоящий Марчук?
О Марчуке мне приходилось говорить с Яковлевым, Герасименко, Казимиренком, Михайловым (Николаем Борисовичем), Печковским, и теперь у меня довольно полное представление о нём, но будет лучше поговорить о Марчуке в очерке о Михайлове, к которому я ездил в Чебоксары… Он – мой друг, отметил Коля, и этим все сказано. А потом он добавил о Марчуке ещё кое-что…
Мы заговорили о Мазанове.
– Мазанов, – отметил Козярский, – человек авторитарного типа, он не склонен лишний раз советоваться с кем-то по вопросам, которые у него, как специалиста, сомнений не вызывают, хотя можно предположить, что ему приходится иметь дело и с другими вопросами.
Поэтому, используя его высокие деловые качества, не следует ставить над ним искусственные командные надстройки. Помню крупную аварию на водоводе в районе Анзебы, которая создала угрозу водо- и теплоснабжению города – это случилось зимой, причем морозы были большие. В то время первым секретарем Братского горкома партии был Тарасов, который, понимая размеры и возможные последствия возникшей угрозы, немедленно создал штаб по ликвидации аварии. Создание различного рода образований под военизированными наименованиями в те времена (да и сегодня) имело целью получить напряжение в обстановке общего недостатка индивидуальной ответственности за порученное дело и добиться цели на волне этого напряжения, хотя такие методы неизбежно приводили к росту некоторой бестолковщины.
В данном случае Козярский уговорил Тарасова не создавать никаких штабов и не довлеть над Мазановым, но образовать под его руководством группу ответственных людей, обеспечив этой группе все необходимые полномочия. Так и было сделано, и вопрос был решен.
– Думаю вместе с тем, что Мазанов мог бы выиграть в производственных и человеческих отношениях при проявлении большей лояльности к людям, – продолжал Козярский.
В свое время, когда у него возник конфликт с партийными органами, я способствовал его урегулированию и нейтрализовал действия Саврицкого, который всеми силами сопротивлялся переводу Мазанова в аппарат Управления Братскгэсстроя.
…Козярский помолчал некоторое время и добавил:
– Передайте мой привет всем старым товарищам и знакомым, которые знают и помнят меня и кому этот привет может принести чувство удовлетворенности. Мои замечания по конкретным людям не следует воспринимать как критику, это частное мнение, не претендующее на истину в конечной инстанции, и, конечно же, они вправе сказать обо мне все, что считают правильным и нужным…
Юрий Константинович, как всегда, был предельно точен и осторожен в своих высказываниях, особенно когда, дело касалось людей.
– Братск – огромное дело, – продолжал он, – это интереснейшая пора в моей жизни; до Братска мне не приходилось видеть столь много людей с таким масштабным мышлением и с такой энергией.
– В Братск, – повторил он, возвращаясь к ранее высказанной мысли, – я приехал как уже сложившийся человек и специалист, однако Братск продолжил в определенной мере моё формирование.
…Наше время истекало, и Козярский, исчерпав основные темы, заговорил о некоторых общих вопросах, которые занимали его в последние годы и особенно последний период.
Жить стало труднее, но если ничего не покупать из одежды и донашивать некоторое время то, что есть, нам, пенсионерам, прожить можно. Мы с Татьяной Константиновной получаем кое-что по ветеранской линии.
Мы активно трудимся на земельном участке, у нас три сотки. Овощи есть свои – храним их в полухолодной лоджии. Цены на картошку повышаются…
Его краткий экскурс в проблемы быта завершился так же быстро, сколь неожиданно возник, – Козярский никогда не проявлял особого интереса к удовлетворению прагматических потребностей, предпочитая скорее ограничивать эти потребности, чем думать о каких-то иных источниках, хотя пенсия Козярского на момент моего приезда составляла 265 рублей…
Ещё несколько лет назад я думал, что мы сможем купить квартиру Тане, когда она соберется замуж, но теперь очевидно, что это не получится, заметил Юрий Константинович.
Слушая его со скрытой горечью, я подумал, что если совет директоров Братскгэсстроя в свое время счел возможным заплатить Закопырину разницу в зарплате за 3 года как незаслуженно уволенному, то имеется не меньше моральных оснований решить вопрос о какой-то ежемесячной доплате 75-летнему Козярскому, учитывая материальное положение, в котором он сегодня находится, и всё, что он сделал в своей жизни для Братскгэсстроя!..
Упоминание о Тане разбудило особый анклав души Козярского, и он вновь затронул тему, с которой мы начали наши встречи и которая с возрастом, как видно, все глубже захватывала его, – семья и дети…
…Я пришел к выводу, Иван Михайлович, что важнейшим условием стабилизации нашего общества в будущем является религиозное воспитание детей. Им надо бережно и естественно прививать евангельские истины и заповеди, выдержавшие испытание временем догматы христианской церкви.
– Недавно я почувствовал желание побывать в костеле, где крестили отца и мать, а потом меня, – тихо продолжил он эту тему. – Я с особым чувством думаю о Братске ещё и потому, что у меня остались на той земле две дорогие могилы…
Оценивая прожитое, я думаю, что в своей жизни я делал мало добра; наше общество очень несовершенно, и людей, которые могут делать реальное добро, значительно меньше, чем тех, кто в нем нуждается.
Я много лет занимал должности, позволявшие мне помогать людям, но думаю, что недостаточно использовал эти возможности.
Вот Агафонов прислал мне письмо, где пишет, что обязан мне жизнью, когда я помог ему обеспечить хорошую, врачебную помощь, но ведь я мог и лично съездить к нему в больницу – не и съездил. То же и по отношению к Пиотровичу – по телефону я оказал ему содействие при похоронах жены, а вот лично не нашел времени подойти. Я был слишком увлечён работой и забывал о людях…
Слушая Козярского, я вспомнил про себя пушкинские строки:
И медленно склоняясь и слабея,
Мы близимся к началу своему…
Видимо, нечто фатальное, от судьбы и предков заложено в души людей, и всю свою жизнь они временами обращаются к этим ценностям, сопоставлял с ними то, что с ними происходит в жизни, и человеку по высшим счетам его кармы воздается и за зло, которое он вольно или невольно причинил кому-то, и за добро, которое он подарил нуждающемуся…
Я начал готовиться к уходу, а Юрий Константинович, пошептавшись о чем-то на кухне с Татьяной Константиновной, вынес мне в подарок три упаковки великолепной копчёной колбасы – целое богатство. Мои попытки рассчитаться привели к неожиданному ходу: а это Таня, сказал Юрий Константинович, она Вас ждет на станции метро, вот Вы с ней и рассчитайтесь… К копченостям при этом прибавилась банка растворимого кофе.
В узком коридорчике, сидя на маленькой скамеечке, Козярский неторопливо надевал ботинки, а Тобик проявлял энергичную жизнедеятельность, крутясь между нами у выхода, вертя хвостом и ещё надеясь, быть может, на неожиданную прогулку, но в какой-то момент он вдруг понял, что его выход не предусмотрен, и сразу притих, глядя на них; слезящимися глазами… Это было как с ребёнком, ведь ребенок обычно при этом плачет.
Я попрощался с Татьяной Константиновной, поблагодарив её за гостеприимство, и мы с Козярским пошли к автобусной остановке, на площади, одновременно главной и единственной. Мы шли мимо памятника Ленину, который я успел внимательно осмотреть накануне, во время небольшой прогулки по окрестностям. Ильич, исполненный из красноватого камня, стоял на постаменте, твердо опираясь на него крепкими ногами; богатырские плечи выпирали из-под скромного интеллигентского пиджачка. Правая рука была вытянута вперед и чуть вверх, а кисть её с зажатой кепкой была опущена вниз, создавая ощущение, что каменный великан дрессирует кого-то стоящего неподалеку; голова была приподнята и слегка отклонена назад, и зрачки глаз, выполненные глубоким рельефом, смотрели вдаль таким образом, что видеть рядом что-либо или кого-либо, в том числе и тех, кого он дрессирует, он просто не мог и словно отмахивался от них; погодите и отстаньте, я сперва гляну вперед, а уж потом займусь с вами…
Вместе с тем памятник был выполнен профессионально, и – будь моя воля – я оставил бы его как знак нашей эпохи, навсегда расстающейся с идолами и кумирами, но сохраняющей при этом историческую память; конечно, следовало бы его перенести куда-нибудь в открытый музей…
На массивном лбу вождя я заметил ярко-белый потек птичьего кала – тоже знак эпохи, хотя ещё недавно эта мысль не появилась бы столь естественно.
Время приближалось к пяти, на остановке я увидел автобус, быстро попрощался с Козярским, пожал ему руку и побежал; я успел заскочить в открытую дверь и оглянулся с дрогнувшим сердцем: Юрий Константинович стремился бежать, но у него это уже не получалось!.. Дверцы хлопнули, и я помахал ему рукой из-за стекла, уже на ходу. Приведет ли судьба увидеться ещё?.. Дай Бог ему здоровья и благополучия…
…Таня ждала меня у последнего вагона метропоезда, мы договорились с утра, что она, используя свой свободный график работы, покажет мне привокзальный Киев в то краткое время, которое ещё оставалось: поезд на Одессу, где меня ожидала семья Герасименко, отходил в восемь часов вечера…
Выйдя на вокзал, я подошел к ней, она легко поднялась с массивной скамьи, улыбнулась, и мы пошли на выход. Вечерняя темнота уже опустилась на красавец-Киев, но улицы были ярко освещены.
Мы с Таней были дружны и свободны в общении естественно и просто, так, как, это могло быть в моём и её положении, еще с 1986 года, когда мы с Чурсиным были на 70-летии Козярского, а потом она проводила нас до остановки аэропортовского автобуса… Таня была умна и. развита, её речь была богата эмоциями и выразительна в сочетании с природной скромностью. Тогда мы с ней много говорили об ее отце, о том, кем он для неё является, помимо родственных уз. Мне тоже было о чём порассказать ей, и мы поняли тогда, что Юрий Константинович умеет быть интересным для людей разных поколений, конечно, если захочет. Она закончила Киевский архитектурный институт и работала в архитектурной мастерской, немного подрабатывая на стороне.
Ещё тогда мы с Чурсиным поняли, что в личной жизни у неё были проблемы, и я с горечью отметил про себя, что они не исчерпаны и сегодня…
Мы свернули с широкого, хорошо освещённого проспекта на узкую уличку с крутым спуском к Днепру, к маленькому кафе… Славутич был совсем недалеко, а справа оказалась Андреевская церковь. Когда мы увидели её издали, на предстала перед нами как бы висящей в воздухе, потому что верхний белый ярус её был ярко освещён, а нижний скрывала надвинувшаяся темнота. В кафе нам подали довольно быстро, и это было кстати, потому что времени оставалось немного…
– …Мне кажется, Иван Михайлович, – говорила Таня, – что уже с раннего детства меня окружала не та обстановка, которая была у других детей. Меня, в общем, баловали, и у меня было многое из того, чего не было у них… И это не очень-то помогало налаживанию естественных отношений со мной в классе… А от Вас я впервые узнала о том, что моя мама умерла в Братске… Таня помолчала…
– Прости меня, Танечка, наверно, тогда я причинил тебе боль…
– Нет-нет, когда-то я должна была узнать об этом, папа передал мне её дневник…
– Между прочим, Танечка, меня одарили копченостями и сказали, чтобы я рассчитался с тобой – такой вот прием.
– Иван Михайлович, – молитвенно-детски попросила Таня, – не надо… Папа Вас так ждал…
Между тем Киев начинал но-особому волновать меня, он понемногу тревожил какие-то глубоко скрытые чувства, и я понял это в тот момент, когда на склоне горы, обращенной к Днепру, показалась бронзовая фигура Великого князя Владимира.
Высокий и молчаливый, в свободных дорогих одеждах конца первого тысячелетия от Рождества Христова, с большим крестом в правой руке, чуть склонённым вправо, будто князь на минуту забылся, он задумчиво смотрел на свой веселый, крепкий народ, принимающий крещение в великой реке; и его люди, за минуту до этого ещё поклонники Перуна и многих других, не главных языческих богов, дотоле строивших им и друг другу многочисленные и хитроумные козни, богов, которым они молились веками, утром и вечером, до и после еды, до и после охоты, в рождение и смерть, на праздниках у костра, перед битвами и после них, его любимые подданные, славяне, составлявшие силу и славу великой Киевской Руси, выходили из воды перед его взором уже крещёными христианами, ещё не понимая и не осознавая того, что отныне и навеки они и Русь вместе с ними вступили на новый исторический путь христианства, который в будущем вместе с Русью объединит все земли, в одну великую страну.
Владимир молча стоял в темноте, и лишь изгибы его одежд, навсегда застывшие в бронзе, матово отсвечивали в отраженном свете далеких огней.
– Веселитесь, дети мои, – беззвучно вздыхал старый князь, – но помните, что Бог един.
…До отхода поезда оставался час с небольшим, и мы с Таней решили, что успеем доехать до Владимирского собора…
Собор уже не был освещён, он готовился к закрытию, и огромное здание казалось безжизненным, однако до закрытия оставалось ещё несколько минут, нас пустили, и мы почти сразу же, через десяток метров, попали в какую-то совершенно особую обстановку.
Как и наружное освещение, внутренний свет был уже погашен, и огромное подкупольное пространство собора было совершенно тёмным, но при этом оно было наполнено множеством шорохов и звуков, казавшихся непостижимыми и таинственными в первые мгновения; однако потом в них угадывалась угасающая жизнь в разных секциях, притворах, и на широком пространстве для прихожан, по которому еще бродили те, кто запоздал или кто хотел наедине побыть с Богом или со святыми.
Идеальная акустика собора, отражая эти простые, будничные шорохи, сообщала им ту многократную и странную сочетаемость, которая и создавала в конечном итоге обстановку таинства и непостижимости и которая поразила меня в первые мгновения присутствия в соборе.
Скорбные и согбенные старушки в чёрном, чуть шаркая по каменным полированным плитам пола, молча скользили вблизи горящих свечей, понемногу гася их одну за другой; гигантские стены были расписаны на библейские темы, около, украшенных икон и портретов святых, многочисленных распятий горели неугасимые лампады, кое-где настенные росписи освещались свечными лампами.
Строгие лики святых смотрели на меня со всех сторон своими глубокими проницательными глазами; в них ясно читались духовная чистота и сила, утверждавшие, величие библейских истин, их нетленную мощь, идущую из глубины веков. Вся спокойная, чистая и могучая аура необъятного пространства собора призывала душу довериться божественной правде и раскрыться перед ней, и в эту минуту я необратимо и пронзительно прочувствовал, что если люди, приходящие сюда каждый день или по торжественным христианским праздникам, чувствуют здесь примерно то же, что стало вдруг доступно и ясно мне, а иначе зачем бы им сюда приходить, то никто и ничто – ни Кравчук, ни Ельцин со своими ненужными амбициями – никогда не смогут нарушить нашу общность или провести границу между мной и этими приходящими сюда людьми, что бесчисленные духовные узы столь же прочно, сколь незримо и навечно соединяют два наших великих народа, у которых на этой священной и единой земле одна судьба, одна вера, одна жизнь и одна смерть…
…Киевский вокзал был ярко освещён – он предстал перед нами со всей своей красе, но она не могла ни заслонить, ни приглушить той сокровенной истины, о которой поведали мне старый князь Владимир и его Великий собор. Я искренне и горячо обещал Тане, что у неё всё будет хорошо и что, она дождётся своего счастья; я был уверен в эти минуты, что иначе и быть не может, и, наверно, эта уверенность в какой-то, мере передалась ей.
Уже уходя, она внезапно и быстро оглянулась и подарила мне на прощанье благодарный и беззащитный взгляд своих тёмных, прекрасных глаз, в которых плесканула вековечная и простая мечта:
А всего-то и надо, чтобы Солнце светило,
Чтоб радость струилась, ручейками звеня,
Чтобы я, если можно, кого-то любила,
И ещё, если можно, чтоб любили меня!..
Мой поезд быстро набирал скорость, огни ночного Киева уходили вдаль; меня ожидала Одесса.
В одном купе со мной ехали пожилые брат и сестра; она говорила по-украински, он – по-русски, и было видно, что они понимают не только то, о чем говорят, но и о чем думают… Из их речей я понял, что она из-под Одессы, а он – железнодорожник из Рязани, что она побывала у него в гостях, а потом он взял отпуск и поехал проводить её домой.
Они неспешно и естественно говорили о знакомых, о детях, о внуках и тут же переходили на поросят и кур, а потом достали еду из старого полиэтиленового мешка – сало, яйца, хлеб, и начали есть, запивая трапезу водой из бутылки. Еду, разложенную на газетке, они брали своими рабочими, узловатыми руками бережно и уважительно, изредка поглядывая друг на друга, – она с доброй гордостью за него, он – ласково и уверенно.
Не очень-то часто виделись они, эти родичи, вот так, рядом, но, как Украина и Россия, они были едины и неразделимы навек, и они всей сутью своей укрепили во мне то чувство, которое зародилось во Владимирском соборе…
И я думал о том, что киевские встречи, оставили во мне духовный след, который уже никогда не будет забыт, и что тревожный, мятущийся мир, в котором мы сегодня живем, вдруг и навсегда стал для меня яснее, ближе и лучше.
Киев-Братск, октябрь 1991 года.
И. МАСЛЕНИКОВ
Источник: Литературный Листок № 14. Приложение к газете „Огни Ангары», январь-февраль 1992 г.Выпускался по специальному решению ГПО „Братскгэсстрой»
Редакция благодарна Татьяне Юрьевне Козярской за предоставленную информацию.
ОБ АВТОРЕ: Заместитель главного инженера Братскгэсстроя по вопросам технического прогресса (1978). Начальник техотдела новой техники, рационализации и изобретательства, технической информации Братскгэсстроя (1968). Старший инженер и начальник отделения электриков монтажного отдела управления Братскгэсстрой (1960). Старший инженер управления главного энергетика и прораб на строительстве ЛЭП-500 кВ Братск-Иркутск (1959). Инженер технической инспекции дирекции строительства Братской ГЭС (1956). Награжден медалью «За трудовую доблесть», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, значком «Отличник энергетики и электрификации СССР». БИОГРАФИЯ