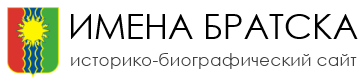НОВЫЕ РАССКАЗЫ АНАТОЛИЯ КАЗАКОВА - ИМЕНА БРАТСКА
НОВЫЕ РАССКАЗЫ АНАТОЛИЯ КАЗАКОВА
Голоштанный Васька, которого все называли Васильком, прыгал и всё никак не мог допрыгнуть до высоченной старой деревенской кровати, на которой после обеда задремала его мама Анастасия Андреевна. День, как и обычно в деревенской жизни, выдался у Анастасии труднёхонек. Встала в три утра, вскоре прогнала на выпас корову. Щи к тому времени уже были готовы. Обжигая нутро, муж Игнат хлебал, дуя на деревянную ложку. Сколько уж раз дивилась Настасья: ну подождал бы чуток, пока остынет, нет — именно, чтобы с пылу с жару надобно её мужу. Проводив Игната на работу, Анастасия, наконец, присела на лавочку, была она брюхатой, да на девятом уж месяце. Вот потому после обеда и прилегла отдохнуть. А если бы не брюхатость, ни в жизнь бы не прилегла безо времени. Василёк, попрыгав и поняв, видимо, что не допрыгнуть ему до высоченной кровати, расстроился и захныкал. Причиной тому оказалось что ни на есть обыкновенное житейское дело. На лужайке, возле дома был привязан их телёнок, у которого пока ещё не было клички. Василёк, выйдя после обеда на крыльцо, постоял немного, подражая отцу, похлопал себя по пузу. Отправился на лужайку и от увиденного широко открыл рот. Палочки, к которой был привязан телёнок, не было, не было и верёвки, не было, наконец, и самого телёночка. Васе было уже пять лет, но разговаривал он ещё почему-то совсем плохо, так уж было в их родове, что поздно начинали разговаривать. Вот потому он и пытался теперь допрыгнуть до кровати, чтобы сообщить матери о пропаже. Но вот беда: в их родове не только поздно начинали разговаривать, но и росточка все были махонького.
Мальчик, устав и переволновавшись, заснул прямо на полу. Приснилось ему, что папка его Игнат Иванович, узнав, что пропал телёнок, прилетел с председателем колхоза на вертолёте, взял с собой Василька, и они вместе облетели все поля и леса. Василёк всё показывал своей ручонкой пилоту, куда мог убежать любимый телёночек. Вдруг сквозь сон мальчик услышал слова матушки Анастасии Андреевны:
— Ох горе-то какое, Василёк-то прямо на полу заснул. Не застудился бы родненький.
И мать стала поднимать сына с пола. Вася проснулся и вдруг совершенно чётко и членораздельно, чего не наблюдалось ранее, спросил:
— Мама, а телёночка нашего на вертолёте нашли?
Анастасия Андреевна от услышанного открыла рот. Затем, посадив сынишку на кровать, подошла к образам, помолилась и сказала вслух:
— Слава тебе Господи, заговорил. А люди-то говорили, но что теперь об этом толковать.
Затем. поглядев на Васю спросила:
— Постой, о каком это ты вертолёте, сынок, баял?
Василёк, окончательно проснувшись, сказал:
— Ну как же, маманя, мы с тятей, председателем и пилотом полетели на вертолёте телёночка нашего искать. – Затем, смутившись, продолжил — Только вот я заснул чего-то, и не упомню — нашли или нет.
Мать, спохватившись выбежала на крыльцо. Их телёнок с верёвкой на шее и лежащей на зелёном полотне земли палкой стоял возле резного их крыльца, тыкаясь головой о приступок. Анастасия Андреевна, погладив телёночка, тут же и дала кличку, назвав его Потеряшкой. Потом, подумав, переиначила имя, рассудив так: назовёшь Потеряшкой — будет теряться, лучше уж Верным назвать, ведь пришёл он к крыльцу-то нашему, стало быть, Верный и есть. Вбив вновь палку в землю, в этот раз покрепче прежнего, мама с сыночком сели на лужайку, и весёлые глядели на Верного. Только вот Василёк поначалу слегка поспорил с мамой, говорил, что может быть лучше Потеряшкой назвать телёночка. А выслушав доводы мамулечки, быстро согласился с ней.
Вечером вернулся отец и, узнав, как он на вертолёте с председателем искал телёночка, засмеялся на всю избу, да так громко, что куры на насесте и то встревожились, закудахтали. Радость отцова была ещё и от того, что Василёк его, наконец, заговорил, а стало быть, порода их продолжается. И подойдя к образам, стал молиться. Не слышны были его слова, говорил он их про себя, и совсем не трудно догадаться, о чём они были…

НОНЕШНЕЕ БЫТИЕ, ИЛИ СВЕТЛЫЕ СЕНТЯБРЬСКИЕ ДЕНЁЧКИ
Что такое был нынешний телеграф? Стоящие одиноко кабинки, в которых, как и положено, находились таксофоны. Раньше этих кабинок было шесть, и по междугородней связи разговаривали все, но может быть, за редким исключением. В особенности жители дальних деревень не пользовались такой связью, хотя, что это я не туда заехал, ведь в этих же самых кабинках лет тридцать назад разговаривал я с другом Серёгой. Приехал он в район с деревни, чтобы со мною поговорить, гоже на душе становится после таких звонков, словно дверка из детства приоткрывается. Деревенское ли, городское ли детство остаётся с человеком, покуда коптит этот самый человек небушко наше русское на белом свете. Я уже давно не помню, о чём мы тогда говорили с Сергеем, а вот тепло на душе, после разговора помню, прямо утроенная энергия в теле образовалась.
Теперь же стояло всего две кабинки. По теперешним временам, а на дворе стоял две тысячи восемнадцатый год, телеграфистки принимали платежи за интернет, домашний телефон, оплату за детский сад, и уже были очень редки переговоры в этих самых кабинках. Но всё же, они были.
В один из таких дней дед пытался дозвониться до Украины, его очень волновало, что происходило на его Родине. Он всё набирал и набирал номер, то и дело выходил из кабинки и с тревогой в голосе твердил:
— Ну что же, девушка, не отвечают?
Потом, словно окунь, которого вытащили из лунки, поглотав ртом воздух, горестно вздыхал:
— А то и правда, война ведь там, какая связь.
Телеграфистка Лена Бродягина старалась утешить дедушку:
— Не расстраивайтесь так, вы за свой век много разного пережили.
Дед повесил телефонную трубку, вышел из будки, глянул на телеграфистку:
— Да, дочка, пережили, и в деревне работали, да знаешь, как робили, нонешние-то всё по менее нас работают, да чего там таить, ни в како сравнение не пойдёт их работа. На деревне редко у кого, в особенности у старших, грыжи окаянной не было. Всё от надсады. Нашему поколению повезло – Братскую ГЭС построили. Трудно, но как-то весело жили. А ныне на моей Родине война, жива ли сестра – не знаю. Брата два умерли, и не съездишь туда, вот какая оказия. Я, было, подумал, что по междугородней дозвонюсь. Спасибо девушка за участие, добрая ты, сразу видно.
Дед, тяжело вздыхая, поплёлся к двери, но перед выходом вдруг обернулся и ещё раз сказал:
— Добрая ты.
Елене Ивановне Бродягиной было сорок восемь лет. Её и правда любили все бабушки и дедушки посёлка Гидростроитель. На все вопросы ответит ласково, даст нужные телефоны, а вопросов было действительно очень много. Несколько бабушек просили номера телефонов начальства, которое оставило их навсегда без любимого проводного радио. Находились и такие, которые ругали за это Лену, но она вовсе не сердилась на них, ласково и очень доходчиво объясняла. Многие спрашивали номера телефонов ремонтников, чтобы наладить домашний телефон. Кто-то просто, если не было народа, рассказывал о своей жизни, очень многие называли Елену Ивановну дочкой. Её ласковое обращение с людьми всамделишно трогало души людей, это было видно сразу. В жизни у кого-то скандалы, ипотеки, кредиты, пьянство — много от чего бывает туго человеку, и я не раз видел, как после разговора с Еленой Ивановной людям становилось легче. Особенно жалела Лена тех стариков, над которыми издеваются их дети или внуки. Её целебные слова утешения всегда помогали, и уж смотришь – бабушка или дедушка заулыбались. Я всегда дивился в такие вот моменты, глядя на добро, которое происходило не где-то там, за горизонтом, а тут, где я работаю охранником.
Работало телеграфисток поначалу в нашем посёлке Гидростроитель несколько человек, потом кто-то ушёл на пенсию, кого-то сократили. Теперь работали только две подруги – Елена Ивановна и Евгения Валерьевна. С самого, действительно сказочного, детства дружили они, вместе учились в школе, любили девчушками ездить на дачу к Евгении. Полны-полнёхоньки были тогда улицы дачные весёлой молодёжью. Завод отопительного оборудования процветал, продукция шла по всей России и за её пределы. Не забыть никогда Лене и Жене, как однажды на заводе они отведали первый раз в жизни молочного коктейля. Вместе выучились на телеграфисток, начали работать на новенькой АТС, коллектив оказался замечательным, и за многие последующие годы никто не помнил, чтобы кто-то с кем-то поругался. Вскорости, как и положено по жизненному ритму, вышли замуж. Настали страшные девяностые годы, и в эти годы растили они две закадычные подружки своих сыночков. Прошли годы, родили они и по второму сыночку.
Минуло с той поры много лет, и вот наступил этот восемнадцатый год. С Евгенией Валерьевной не продлили трудовой договор, если бы сократили – то она бы хоть какое-то время получала деньги. Это всё, конечно же, довело женщину до слёз, и единственной на ту пору отдушиной для неё явилась свадьба сына. Ездила она с мужем в Питер, где работал её старший сын, молодые поженились, и за старшего она была спокойна. Вернувшись, часто заходила к Лене, обсуждали, что если бы не подняли так называемый МРОТ, то они бы, может быть, и доработали до пенсии. Об этом же говорили многие люди в нашей стране. Мои же работодатели твердили прямо: «Мы по существующему закону должны платить вам больше, а где мы возьмём денег? Поэтому готовьтесь к сокращению». Вот такая складывалась картина — закрывался много лет служивший верой и правдой людям телеграф. Сокращалась и охрана. Мы с Еленой Ивановной дорабатывали последние светлые сентябрьские денёчки. У неё на даче не было теплицы, а видя то отчаяние в глазах человека, который вскоре останется без куска хлеба, я не стерпел и поделился с женой Ириной мыслями о том, что надобно бы принести ей помидоры. В этом году мы собрали около двадцати вёдер помидоров, это был, конечно, немалый труд, но в часы, когда работаешь на даче, отвлекаешься от грустных мыслей будущей безработицы, а мысли эти окаянные всё долбят и долбят мою седую башку. И вот утром я ещё только открыл глаза, а жена уж торопит:
— Давай же, Толик, неси помидоры Лене, я ей и перчиков положила.
Идя утрешней дорогой по родному посёлку, как всегда останавливаюсь, осеняю себя летучим крестом перед храмом, иду дальше на работу. А мысли в моей голове были таковы: «Вот многие утверждают, что-де сделал доброе дело — и молчи». Оно, безусловно, всё так, об этом много написано в нашей великой классической литературе. Но всё же в каких-то случаях надобно, чтобы и узнали люди. Это я о тех, кто спасает жизни детей, да и вообще – кто спасает.
И вот я на посту. Заходит Елена Ивановна, вид очень грустный. Всё это лето он был таковым, ибо знала она свою дальнейшую перспективу. И чтобы там ни утверждали всегда умные психологи, но когда человек остаётся без работы, это зачастую всё же трагедия, особенно у нас — в России, ибо доходы наши известны. Протягиваю Лене огромные домашние помидоры, перцы, твержу, что Ирина моя строго-настрого меня проинструктировала, чтобы не забыл взять. Вижу улыбку на лице этого воистину светлого человека. Пьём чай перед открытием телеграфа, и я говорю Ивановне:
— В девяностые годы растили мы своих детей, бывало, суп с кубиков да голых костей варили. Пришла пора на пенсию выходить, и тут «кинули» жестоко – вот это действительно обидно.
Мне и Елене Ивановне оставалось бы два года до пенсии, теперь результаты повышения были объявлены, учитывая, что наш район приравнен к районам крайнего севера, мне предстояло трудиться до пенсии ещё пять лет вместо двух, Елене — четыре года вместо двух. Во всяком случае, на тот момент была такая информация. С женой моей Ириной Лена и Женя были знакомы с детства. Мы никогда не были лентяями, но работы в стремительно погибающих наших посёлках не было, особенно для нашего возраста. Так вот жила наша любимая страна в восемнадцатом этом году. По гороскопу нынче идёт год собаки, а собака, как известно, друг человека, нет – всё же ересь все эти гороскопы. Лена, отхлебнув чаю и посмотрев на часы, сказала:
— Я ведь не говорю людям, что скоро тут они платить не будут. Очереди-то у нас в дни выдачи пенсий сам знаешь, какие — в туалет не сходишь, терпишь. Если сказать, вопросами одолеют, а расстраивать людей раньше времени не хочу. Люди-то ведь привыкли, что я им распечатку всегда делаю, не будет этого больше никогда. А знаешь, я про отца своего вспомнила, любил он меня. Он ведь местный, из бурундуков, мама -приезжая. Братск – великая комсомольская стройка, многие тысячи молодых семей тут образовывалось. Вот и нашли друг друга. Жизнь-то у нас в молодом городе действительно словно добрая волшебная сказка была. И вот пришли девяностые, брат мой родной скололся, как ни спасали. Иди, Толик, открывай телеграф, мы ведь ещё пока послужим людям.
Я шёл, открывал дверь, видел множество заходящих ничего не подозревающих земляков, все очень дружелюбно разговаривали с Еленой Ивановной. Многие утверждают, что ежели ты отчаиваешься, то ты плохо веруешь в Бога. Нет, нет и нет, тут всегда и для каждого очень тонкая грань. И уж совершенно точно мало кому удаётся прожить жизнь, не отчаиваясь.
Утром, отработав сутки, я шёл в наш правобережный храм «Преображения Господня», там было отпевание нашего прихожанина Виталия Григорьевича Каськова. Тихо взяв за плечо Лидию Дмитриевну Каськову, что-то тихо говорю. Она, повернувшись ко мне, сказала:
— Вот, Толик, Виталия моего сегодня земле предадим…
Отпевание, погост, поминки в храме, из еды — суп грибной, картошка с тефтелями, салаты дачные, кисель, конфеты, пряники. Одна наша прихожанка просит меня, чтобы я сказал слово. Я же ожидал, что прежде должны сказать родные, но они молчали, не сказать я просто не мог, люди ж мы, прежде всего.
— Много лет назад я писал статью о Виталии Григорьевиче и Лидии Дмитриевне Каськовых, называлась она «В ожидании чуда». Известный православный писатель Василий Давидович Ирзабеков разместил эту статью на своём сайте «Живое слово Василия Ирзабекова», позже много кто её размещал и печатал. Знаете, только к дому их тогда подходил, а на крыше большая стая голубей сидит, кормили эти светлые люди голубей-то. Сколько лет стояли вместе с Виталием Григорьевичем на церковной службе. А примерно к десяти часам приводят или приносят в храм маленьких детей, тех, кого давеча крестили. И вот когда наш храм наполнялся детьми, и когда многие готовились к причащению святых тайн, именно в эти минуточки я невольно глядел на Виталия Григорьевича – этот довольно высокий и крепкий на вид человек улыбался, нет – я так улыбаться не могу. Многие детишки из храма подходили к нему, разговаривали – и стар и мал, очень умильно было наблюдать за всем происходящим в такие вот светлые минуты. Виталия Григорьевича мучила одышка, высокое давление, он, бывало, выходил из храма, садился на лавочку отдышаться, принять таблетку. Дети обычно в такие минуты играют возле берёзок на лужайке, и я вновь видел его неповторимую улыбку. Волнуясь за него, выходил тоже, справлялся о здоровье, отмечая про себя простую мысль, какая же всё же разная бывает улыбка у людей. Он частенько поминал нашу Александру Егоровну Сухорукову, которая водила своим кулаком по его позвоночнику, и ему всамделишно становилось легче. Всю жизнь работал этот светлый человек шофёром, строил Братск, воспитал двоих сыновей, слава Богу, дожил до внуков и правнуков. Вечная память прихожанину нашего храма «Преображения Господня» Виталию Григорьевичу Каськову!
Слова мои были, конечно же, примерными – волнуется всегда человек в такие вот моменты, и вроде бы все свои вокруг, а всё одно – волнуешься, так-то вот мы устроены в жизни нашей загадочной, и хорошо, что так. Чище ведь становимся, когда скорбим, что-то неведомое разум посещает, и это неведомое тоже очищает душу.
Настал день, когда телеграф закрыли, просто и неизбежно настал, пришёл конец сентября.
– Не поминай лихом, Елена Ивановна, — говорил я Лене в последний день нашей с ней работы.
А она в ответ:
— Да за что же, Толик? В одном посёлке живём, звони хоть иногда.
Последний этот день запомнился ещё и тем, как выкорчёвывали таксофоны, закидывали их в Газель, чтобы сдать на металлолом. Трудно, да и невозможно было избавиться от ощущения, что ты теперь – тоже металлолом…
Прошло больше полумесяца с того дня. Что же произошло за это время? Мне выдали трудовую, где было написано, что я сокращён, я встал на биржу, очень угнетающе всё это действует на меня. Пошёл к глазному, зрение на одном глазу минус тринадцать, на другом минус девять. Врач говорит — вставляй линзы, но они не каждому идут, и денег на них надо.
Врач на это сказал:
— В весёлое время живём. Инвалидность по закону не могу тебе дать, так что я понимаю, конечно, что ты ничего не видишь, но это твои проблемы.
За это время весь народ, который платил на телеграфе, ринулся в находящееся напротив отделение связи. А на закрытой двери телеграфа написали огромаднейшими буквами «Телеграф закрыт навсегда», сделали это, видимо, работники почты. Они звонили Елене Ивановне уже через несколько дней с большой тревогой, жаловались, что работают на износ, что компьютерные программы у них по обслуживанию населения были очень медленными. Образовалась постоянная большая очередь, одна бабушка кричала, что расстрелять бы таких работников, ведь ей не нужны были платежи, ей надо было получить посылку.
Лена с Женей один раз пошли на рынок и очень пожалели об этом. Звучал безжалостный вопрос: «Что вы теперь делать будете?» Очень многие их по-человечески жалели. Вынести всё это двум враз потерявшим работу женщинам было катастрофически сложно. И поэтому они, не сговариваясь, посылали теперь за продуктами своих мам и сыновей. Елена Ивановна уже один раз сама стояла сорок минут в очереди на почте, знала, что девчонки с почты не виноваты, что у них такие медленные программы, на телеграфе же, когда они работали были самые быстрые программы. На место нашей государственной охраны пришла частная, работники которой были не раз замечены в воровстве и пьянстве. И теперь на моём бывшем рабочем месте сторожили сами рабочие станции.
Понимаю, разумеется, что то, о чём пишу, происходит по всей стране. Ну, может быть, в Первопрестольной и Питере полегче. До боли в сердце жаль некогда процветающие, ныне же очень стремительно погибающие наши посёлки…
Кваском всё время подчевала маманя Серафима Сергеевна своего последыша Сашку. Квас у неё получался на деревне самый что ни на есть отменный, слезу вышибал на раз. Залётная бригада плотников которое уж лето дома у них строили, непременно к Серафиме бегали за квасом. А ежели кто с похмелья, и вовсе дорогу давным-давно протоптали к покрашенному в зелёный цвет дому Сергеевны. Вынесет она жаждущему полный ковшик древнего напитка, ахнет человек алюминиевый черпак, передёрнется, выпучит глаза, поблагодарит и работать бежит. А Серафиме радость на душе от этого, всю жизнь своего Степана квасом этим отпаивала, а рецепт – он что? Это от бабушек всё шло.
Шестым она родила Сашу. А последышей завсегда жальче всех. Ну, а если жизнь личная не залаживается, то и вовсе горе-горькое родителям. Саша работал в колхозе шофёром, углядел в районе девушку, поженились, сына народили на Божий свет. Хоть и любил очень свою Настю Александр, но окаянное вино пересиливало все чувства, крепко выпивал, и семьи не получилось. Хотя к тому времени выстроил для семьи дом. А когда уходил, сказал Насте, что чем может — будет помогать. Прошло какое-то время, Настя вышла замуж за хорошего мужика, Саша его знал. И вот странное дело – был рад, что у его Насти всё хорошо, что у сына будет полноценная семья. Сам же вернулся к матери, да так и жил. Поработает в колхозе шофёром – запьёт, выгнали. После права отобрали. Раз десять возвращался в колхоз – брали: работать он умел, слесарил.
Было дело, что дал председатель в наказание пьянчужке Сашке разбитый бортовой ГАЗ, сказал: «Восстановишь – возьму на работу в колхоз». Днями и ночами не вылезал из гаража Саша. Ездил в район, доставал за свой счёт запчасти. Бывало, придёт домой, глянет на маму, та ему супа наливает, а сама не в силах со слезами совладать. Навалило тогда на сына такое, что и ни высказать, ни вышептать нельзя, даже работу кузнеца освоил, чтобы восстановить машину. Кузнец дядя Иван, видя, как выковывает детали Александр, мотал своей седой, но кое-где ещё чернявой головой, водил рукой по бороде, вроде как приглаживая её, и твердил одно: «Да, талант у парня, не пропьёшь его, ядрён корень».
Машину восстановил, и председатель снова принял Сашу на работу. После вся деревня говорила, что у Серафиминого сына, хоть он и пьянчушка, золотые руки. Но всякий раз хватало Сашу самое большое на полгода. Напоив страшно болеющего с похмелья сына ядрёным квасом, Серафима говорила сыну:
— Большинство-то люди все, хошь и ругаются, но вместе живут, семьями. А вы – пьянчушки, вам это не нате.
Александр никогда не перечил матери, лишь махал рукой и выходил на двор покурить.
Шли годы, и вот люди на планете земля дожили до две тысячи седьмого года. Как там за границей живут – мы не ведаем, не бывали, да поди тоже всяких трудностей хватает. А у нас… Что же стало с Серафимой Сергеевной, с её пьющим сыном Сашей? А стало самое, что ни на есть самое житейское, дело. Колхоз развалился напрочь ещё в девяносто шестом году. Деревня катастрофически пустела. Серафиминого мужа Степана, пьяного вусмерть, умная лошадь всегда привозила спящего в телеге. И, бывало, люди удивлялись: какая умная лошадь у Степана. Серафима никогда не ругала мужа, был он работящий шибко, но знамо дело, выпивал. Иногда он пенял на Серафиму, мол, хоть бы поругала его за пьянство, так и говорил, что тошно ему, что она его не ругает. Жили они как и все, и любовь промеж ними была самая настоящая. Хотя с беглого взгляда и не приметишь будто бы эту любовь. Но когда Степан утром просыпался в чистой постели, ему было всегда стыдно. Накануне он точно помнил, что уснул в телеге. Выросшие дети переносили отца в дом. Так было много лет, и много лет стоял Степан на коленях перед своей Серафимушкой. Выплачется, а она рукой погладит его шевелюру, и скажет, бывало: «Хороший ты мужик, Степан, всё по хозяйству устраиваешь гоже, но пьянчушка бываешь иногда». Ничего больше она Степану не говорила, шла работать по дому, но знала, что Степан ещё будет бить себя кулаками по груди, плакать, ругать себя. И какое-то время не возьмёт в рот. Вскоре Степан умер, и не мучился вовсе – вышел во двор покурить, да и завалился на лавочке. Всю жизнь проработав в колхозе, пенсию он успел получить только за три месяца. А когда на деревне осталось всего пять домов, в которых жили люди, то померла и Серафима.
Окна её дома выходили прямо на давно заброшенную церковь. Деревня стояла на косогоре, и храм стоял на косогоре, разделяла их речка. Перед смертью Серафима рассказывала своему Сашке:
— Мы ещё маленькими были, пришли люди чужие, стали церкву рушить. Уговорили одного крест с храма снять. Ирод окаянный всегда отыщется. Снял он крест, да вскоре сам страшно издох. Потом в храме зернохранилище было. Крышу всё же ремонтировали те годы. Вот это хошь радость. Старухи-то всё равно молились, хоть и запрещали. А если по справедливости, то и не только старухи, все, у кого чего случалось, то и молились. Я, Сашка, наверно, скоро помру. Ты в дому один останешься, так хоть картошку сади, дрова за лето на зиму заготовляй. Речка наша каждую весну дров-то целую уйму наносит, не ленись. Сёстрам твоим я наказала – молока тебе будут возить, продукты, раз в неделю, а может и в две. Не серчай на них – у них уж внуки у всех, дел прорва. Свет, слава Богу, у нас не отключили, набьют тебе холодильник сёстры, не ленись – готовь еду-то. Курицу там свари с картошкой, вот и еда.
Незадолго до смерти успела Серафима вставить в своём дому пластиковые современные окна. Знала, что Сашка её ни за что не вставит. А старые окна давно погнили, и как их не затыкай мастикой или пластилином, всё одно дует. Потому как дом старый, садится, рамы оконные корёжит.
На похороны Серафимы собралось народу много, прямо можно сказать – целая уйма народа. А и как не быть людям – деревни их местности все рядышком стояли, все знали друг дружку, детей женили, сено косили, хлеб убирали, всё, что садили, то и убирали. И через эту тяжеленную работу, эту окаянную надсаду все крепко сдружились. И ежели кто помирал, то собирались все, соборно, как и было заведено предками. Пять её дочерей все вышли за муж, детей нарожали, теперь внуки уж имели своих детей, и все они были на похоронах, поминки сделали по-доброму памятные, и многие старухи вслух говорили, что-де их так не похоронят. Серафима Сергеевна всё говорила при жизни своему Степану: «Наделали мы с тобой, Стёпушка, себе родственников-то», улыбался после таких слов её Степан, да бывало и сказанёт: «А чего, Серафимушка, может ещё одну снегурочку состряпаем». Было это всё теперь уже в прошлом.
Саше, по наказу матери сёстры раз в неделю или две возили продукты. Он же, опять же по наказу матери, садил себе картошку, полол грядки с морквой, луком. Было Александру уже под пятьдесят. Рядом поселился приехавший из совсем пустой дальней деревни Владимир. Как там у него вышла жизнь – никто не знал. Но жил, по его словам, он в деревне совсем один. И вот сказали ему, чтобы он переселялся сюда, в эту деревню, что возить ему пенсию неудобно из-за плохой дороги. На деревне все стали называть нового жителя не Владимиром, а Вованом. Сашка быстро сдружился с Владимиром, вместе пропивали пенсию Вована, а когда деньги заканчивались, немного отудбив, нанимались в соседних деревнях: кому дров заготовить, кому подправить забор. По сантехнике, бывало, прибыль у друзей образовывалась. Звонят по сотовому Саше или Владимиру бабушки из соседних деревень, да культурно эдак выговаривают:
— Дорогой Володимер, бёда у нас – трубу прорвало.
Радовало в такие минуты Владимира, что не Вованом назвали, а так уважительно. Берёт с собой самодельный сварочный аппарат, ключи, и опять же со своим оруженосцем Сашкой идет выручать народ. И воду перекроют, и дыру заварят. Одна бабушка Пелагея Никандровна с любопытством смотрела, как Владимир, заваривая трубу, ругался, что она вся гнилая, а Саша, тем временем, взявши у Володи держатель, стал заваривать напрочь гнилую трубу, и наконец заварил. Поднял наверх сварочную маску, улыбнулся:
— Могём ишшо.
После, глядя на то, как радуются этому бабульки, тоже радуются друганы, потому как они тоже люди, хоть и зовут их, когда они запивают, пьянчушками. Вован ещё умел класть печи и ремонтировать их, и тогда, когда появлялись такие заказы для них с Сашей, наступали дни повеселее. Хозяева хорошо кормили, после работы давали денег, которые на радостях с охотой пропивались. Придут два друга в магазин, который располагался в соседней деревне, наберут консервов, колбасы, мороженного минтая, водки, пива, доберутся до родной деревни, да всё с большим азартом в своё нутро тянут.
По весне, памятуя о словах матери, Саша с Вованом натаскивали с реки брёвна, распиливали их, через эту тяжёлую работу выходил из них похмельный пот. Да и как ему не выйти, ежели лесину тяжеленную тащишь на своём трёхжильном горбу. После натасканное на распил шло, поначалу пилили они двуручкой, и от такой работы выбивались их уже немолодые силы в конец. Сядут, бывало, друганы отдохнуть, и скажет, тяжело дыша, Саша:
— Маманя моя Серафима очень умная была, знала, что после такой работёнки весь хмель вышибет напрочь.
Вован, раскурив папироску и глубоко затянувшись, улыбался:
— А ведь и вправду, Сашка, заботилась маманя по тебе, с утра-то нас ещё штормило от вчерашнего, а нынче уж вечёр, а мы тверёзые сидим. Это, стало быть, такой механизм лечения от алкоголизма матушка твоя изобрела.
Александр после таких добрых слов о матери глубоко вздыхал:
— Маманя моя молодец была, святая, ей-Богу святая.
После удачных калымов купили себе друзья бензиновую импортную пилу, и всё удивлялись, как она здорово работает. Делали они всё вместе: садили картошку, калымили, ставили сети на речке. По осени ходили по грибы, набирали лесных орехов, но так как зубов у обоих давно не было, разбивали орехи молотком, и это крошево ели. Едят, а Володя улыбнётся, бывает, и скажет другу:
— Вот, Сашка, Россия какая наша богатая, витаминами нас угощат.
Встрепенётся на эти слова Александр, улыбнётся, и тоже скажет сотоварищу:
— Мы всё в детстве за орехами этими бегали, зелёными рвали, никогда до спелости их не ждали. Эх, и радовались матери наши тому, что орехи эти мы в дом приносим. Они ведь на вершине горы растут, упасть можно, расшибиться о камни, что возле речки. И вот вроде материнское волнение тут должно быть, а матери наши радовались – де, мы вроде как если лазаем по горе, значит, выносливее становимся, словом, выживем в дальнейшем.
Случилась по поздней осени страшенная буря, на линии повалило много столбов. Свет отключили по всему району на две недели. В тот момент, когда мела эта окаянная буря, Саша думал, что и крышу-то с его дома снесёт. В их малочисленной деревеньке тоже завалился столб. Через две недели приехали электрики устранять аварию. Заходят в дом к одной бабушке – Полине Никаноровне, а у той пироги только что из печи. Угостила электриков. Один, который был помоложе, удивлённо заговорил:
— Вот ведь чудеса, да и только. В районе света две недели не было, бабы криком кричат: ни постирать, ни приготовить, ни телевизор посмотреть. А тут гляди – тепло, пироги, и бабушка, похоже, не тужит.
Ответствовала им бабушка Полина:
— А по чём, сыночки, горевать: телевизор я не смотрю, там один срам показывают, а чо болтают, так и вовсе бы не слыхать, по што живут люди, и эдак делают, пустое это всё, жизни не ведают. Раньше люди Богу молились, работали, тем и спасались.
Увидели электрики и то, как бабушка шила себе юбку. И электрик, что был уже в годах, тоже не выдержал:
— Ну, вот гляди — эти молодые хвалются: владеют сотовыми телефонами, компьютерами. А ежели бы в добавок к этой буре, авария на котельной, которая район обогревает? Подыхать бы, пожалуй, стали бы, а тут вот кто истинно выживет – и пироги у неё, и тепло.
Саша и Владимир, завидев гостей, тут же явились к Полине и, узнав в чём дело, помогли электрикам наладить электричество на деревне.
Была у друзей попытка найти работу в бывшем районном центре. Почему же образовалась эта попытка? Серафима очень вкусно умела солить капусту. Другие земляки, знамо дело, тоже солили, но вкуснее Серафиминой не было не у кого. Научила она и Сашку своего солить, но и не только этому – обучила плести корзины. Твердила сыну, что это можно продать на рынке. Саша и Владимира научил плести корзины, чего их не плести – ивняка по реке росло много. И решился Александр на эксперимент по выживанию. По осени насолил в деревянных бочках капусту, которую они сами вырастили с сотоварищем его. Бочки эти были новёхонькие, потому как кинулись они в чулан, а старые-то бочки давно рассохлись, вот и соорудили новые. Вован всё водил ладонью по новёхоньким бочкам и приговаривал: «Гоже-то как вышло, надо же, баушку вспомнил через это дело». Кого они упросили довести их до районного центра – неведомо, скорее всего, доехали на автобусе, который ещё два раза в неделю приезжал в соседнюю деревню.
И вот стоят друзья, торгуют. Корзины к тому времени в районе уже давно никто не плёл, корзины же у Саши были нарядные, с беленькими переплетениями, узорчатые. Сам себе дивился Саша: ведь чтобы сделать такую красоту, надобно-то всего ножом очистить прутики ивняка, да после сплести их с неочищенными. Люди в этом районе всегда пользовались раньше корзинками, теперь же все жили по-современному, и, видимо, памятуя о былом, стали хорошо покупать корзины у Саши. И вот что интересно – покупали не только те, кто постарше, даже молодёжь охотно брала. С капустой получилось не сразу, подходили, удивлялись – де, сами солят. Но, оказалось, солили, да не все, а распробовав капусточки по Серафиминому рецепту, всю капусту и раскупили.
Нежданно, как это зачастую и бывает в жизни, повстречал на рынке Саша свою бывшую жену Настю. Она сама подошла к нему. За эти многие годы, как они не виделись, оба они, знамо дело, изменились. Настасья его заметно располнела, работала на почте, муж её любил, у них и дочка совместная родилась. Обо всём этом Саша знал от людей, бывающих в районе. Глядя на Сашу, Настя сказала:
— Знаешь, Саша, я благодарна тебе за то, что дом выстроил и оставил нам, я потом много думала: ну, пьёшь, а ведь сейчас-то что творится, как плохо расходятся люди, страшно даже глядеть на такое.
У Александра от таких слов запершило в горле, психика от спиртного была, конечно, во многом разрушена, и он, отвернувшись от Анастасии, заплакал, сказав бывшей жене:
— Ты это, Настя, иди с Богом.
Настя не стала больше смущать Сашу, только сказала, что сын их Сергей женился, работает пожарным, живут пока с ними, и что у Саши уже есть внук Алёшка, три годика ему. На эти слова Александр нашёл в себе силы обернуться к Насте и сказать:
— Вот и слава Богу.
Отобрал среди корзинок самую нарядную, полез в карман, вытащил сколько-то денег, положил их в корзину и протянул Насте:
— Это вроде как подарок мой Алёшке.
Глаза его от слёз были сильно красные. Он то и дело вытирал их рукавом новой фуфайки. Попрощавшись, Настя ушла, а он всё глядел ей во след и шептал про себя:
— Ну, надо же, дед я, стало быть. Чудно это всё.
После удачной торговли сунулся Саша с Володей было к одному знакомому в гости, а там пьянка… После страшно побили обоих, деньги вырученные все отобрали, и Саша, сплёвывая кровь, думал, что хорошо, что Настя подошла — часть денег Алёшке передал. Ночью шли в родную свою деревню-спасительницу, держась друг за дружку, два одиноких путника, мечтая только об одном – дойти.
Недели две всё заживало, и в одну из ночей приснился Саше сон. Пришла к нему маманя и говорит:
— Сыночек мой милый, ты уж дома доживай свой век.
Проснулся в холодном поту Александр, добрёл до кадушки с квасом – делал его теперь сам по материнскому рецепту, выпил большую алюминиевую кружку, которую привёз ещё из армии. Квас, который получался у его мамы, у него не выходил, но пить было можно, всё же и он ядрёностью отдавал. С тех пор в район он больше не ходил. Вован его любезный промучился хворями больше месяца. Сашка каждый день приходил к другу, протапливал печь. Варил привезённых сёстрами куриц, кормил Владимира. Потом, чтобы сэкономить дрова, забрал друга к себе домой. И однажды, когда в его дому весело потрескивала печь, прочитал другу своё стихотворение, правда, перед прочтением оправдывался тем, что стихотворение не о них, но когда его сочинял, думал о себе и Владимире, и начал несмело читать:
Пробивается сквозь землю травушка зелёная,
Запрягаю я коня, глядь: погода знойная.
Колокольчик под дугою зазвенит — и тронемся,
В путь-дорогу на базар торговать торопимся.
Повезу на рынок мясо: всех свиней своих забил.
Я мечтой своей увлекся и её вот полюбил.
Краше Насти нет на свете, выше солнца полечу,
Ведь деньжат на свадьбу надо — это ясно почему.
Разудалая торговля, сразу вмиг богатым стал,
И друзей вдруг стало много, я не всех их даже знал.
Говорили: «Выпьем лихо, и поедешь далеко!»
Вмиг напившись, помню только, положили на крыльцо.
А наутро я очнулся — нету больше ничего:
Нет ни денег, ни телеги, закрутило удило.
И пешком бреду до дому, на душе темным-темно,
Понял скоро, что удачу променял я на вино.
В этой жизни сказок масса, вот и я в одну попал.
Пить с чужими ох, опасно, счастье я своё проспал.
Владимир, услышав стихотворение, даже поднялся со скрипучей кровати, прошёлся немного, размялся, и сказал:
— У тебя, Сашка, талант не только на работу.
Шли годы, все старухи, кроме одной, в их деревне поумирали. Каждой Сашка с Вованом сооружали домовину, да и из других деревень приходили к ним с такими заказами, брали они совсем немного за работу, хоть всегда предлагали им больше денег. Отбрехивались друзья так-де, они же, мол, на поминки пойдут, там поедят, потому негоже много денег брать.
Жили, не смотря ни на что, в деревне два друга -Александр и Владимир, жила на деревне ещё одна бабушка, которая очень верует в Бога. Других жителей не осталось. По весне, правда, к немалой радости деревенских, появляется на деревне Иван, который садит в родительском дому огород под картошку, прихватывает и усад большущий под это дело. Сам он на военной пенсии, по осени продаёт излишки своей картошки. Её эту самую картошку ему заказывают жители района, и он, продав картошку, бывает очень рад. Заходит в гости к Саше и Владимиру, разговаривают о жизни. Сам Иван не пьёт водки совсем, говорит, что выпил своё. Удивляется Иван и тому, что многие люди, живя в бывшем районном центре, не садят картошку совсем, покупают, но покупная, привезённая не знамо откуда оказалась не вкусной, вот и заказывают Ивану, чтобы побольше картошки садил.
Однажды Саше совсем занедужилось, хворь приключилась сильная, полез он к образам, знал, что на полочке у мамы освящённые сухарики да просфирки хранились. Достал их и, глядя на давно пересохшие сухари, несколько съел, перекрестившись, остатки положил снова на полочку, сказав:
— Неужто помру, плохо мне.
А на следующий день отступила болезнь. Саша всерьёз думал о том, что спасла его от смерти мама — Серафима Сергеевна. Поутру с Владимиром ходили проверять сети на речку, после варили уху из только что пойманной рыбы, снова выпивали за улов спиртное. Сеть же Сашка связал новую, и только они её поставили, так тут же и поплавки задёргались, попалась щучка да плотва. Вытащили рыбу, а сеть на ночь оставили, кто её тут в безлюдье тронет, разве только ондатра рыбу съест, но с ней они давно привыкли делиться.
Раз, убирая снег возле дома, Александр посмотрел вдаль деревенской дороги и, к неожиданности своей, завидел там легковую машину. В их деревне ещё раза два или три за зиму всё же чистили дорогу трактором, присылали же трактор с района. Но всё одно – может, и застрянет легковушка. «Откуда она взялась?» — думал Степанович. А машина меж тем приближалась, и вот уже к дому Саши подъехал «уазик». Вылез с машины молодой мужик, подошёл к Александру, на лице его явно отображалось волнение:
— Ну, здравствуй Отец.
Александр выронил из рук лопату и вмиг стал жалок, немного согнулся, и уже плача, произнёс:
— Неужто ты, Сергей, сынок мой.
Обнялись.
– Да я тебе, батя, внука привёз показать.
Из машины вылез мальчик, одежонка на нём была новая, справная, ныне почти все так в районе одеваются, отметил про себя дед Саша, а мальчонка подошёл к отцу и деду да сказал:
— Здравствуй, дедушка, мы с папой вот к тебе приехали.
Сын, считай, вырос без него, Александра, да вот и внук теперь растёт, какие могут быть тогда тёплые отношения меж ними, снова терзался мыслями дед Александр Степанович. Но всё же погостили почти весь день дорогие гости у деда. Александр шустрил, и откуда силы взялись, вмиг истопил баню, сводил внука Алёшку на реку, показал, как рыба ловится. И всё было интересно внуку, раздолбил большую лунку дед топором, вытащил сеть, а там рыбы с полведра попалось, щучки, плотва, окуньки, карасики, всё это живое, трепещется. Друг Владимир, видя всамделишную радость Саши, помогал ему во всём, жарил рыбу, варил уху. Достал из подпола солёной капусты, грибов, закалымленного вкусно посоленного сала. Александр достал из чулана старые свои самодельные санки, съехав с горы, с которой всю дорогу катались в детстве, расчистил тем самым путь. И дал Алёшке вволю накататься.
Когда обедали после бани, сын Сергей, видя холостяцкий отцовский беспорядок, говорил отцу:
— Ты меня растил совсем немного, дальше был отчим дядя Валера, он хороший, я его за отца и считаю. Но на тебя отец зла не держу, маманя вон по сей день благодарна за то, что дом выстроил.
Вечером, уезжая на «уазике», внук Алёшка громко говорил деду:
— Я к тебе ещё приеду, рыбы половим, с горы покататься.
Александр Степанович встрепенулся, сбегал домой, принёс прямо в корзине свежевыловленную рыбу:
— На вот, сынок, угостить мне вас особо-то нечем, а тут сам понимаешь – свежая рыба.
После, как сын Сергей с внуком уехали, Саша с Владимиром снова запили, зимой калымов почти не было.
Так прошла зима, настала весна. На родительский день к Саше приезжают его пять сестёр, вместе они идут на гору, где расположен деревенский погост и стоит давно недействующий храм. Кладут на могилки отца и матери цветы, кладут и пироги, так уж у них заведено, что на погосте не пьют водку. Поплачут сёстры о родителях, глянут на Сашу, шибко жалко им его особенно в такие моменты жизни. Вокруг на погосте полно народу, приезжают отовсюду, и из городов тоже. Почти все только на погосте и встречаются в такой день, раз в году. И уже редко бывает такое, чтобы сильно разговорились, даже те, кто были в молодости друзьями или подругами. Но всё же, случается такое, что и в гости пригласят. Когда день неизбежно переваливает за вторую половину, когда людей, поминаюших родителей, на погосте уже почти не останется, начинается вороний пир, ибо всё вокруг усыпано сдобными пирогами.
Идут после в Серафимин дом её постаревшие дети, которые, кажется, совсем недавно были молодыми заводными девчушками, ныне же это были все с различными болезнями женщины в годах. Накрывается стол, и еды на столе, слава Богу, в достатке. После выпитой рюмки сёстры все зовут Сашу, чтобы он перебирался жить к ним. Брат отказывается, говорит, что во сне видел маманю, и она велела жить ему дома. Деревенский храм давно недействующий, помнит, как всю жизнь молилась на него Серафима Сергеевна, для неё он всегда в душе действующий, даже там на небесах. Ведь пьющий её сын помогает людям…
Три берёзки, посаженные из одного корня, росли, росли, и как уж водится на белом Божием свете, выросли. Да такие стройные, словно по Шукшину, всамделишно невестушками смотрелись, радовали глаз людской. Рядом с берёзками вырос огромный тополь. Совсем близко располагался большой бассейн, куда много лет со всех школ возили на автобусах школьников. Народ наш — добрый сердцем, а попросту — сердобольный он, народ-то наш, так уж повелось, потому, когда, случалось, автобус не приезжал, вышагивали ученики пешком, весело говоря о чём-то, зачастую так в молодости и бывает. Рядом с бассейном располагался Дом культуры.
Время так шло себе и шло, рождались и умирали люди. В вечной круговерти времени кто-то спешил на работу, в садик, школу, институт, училище, да мало ли, куда надобно всегда суетному человеку спешить. Но настали страшные девяностые годы, об них упомянуть невозможно, ибо нестерпимо много страданий принесли эти страшные для нашего народа годы. Как же радовались многие поколения школьников, купаясь в бассейне. Но его закрыли взрослые дяди и тёти, так они решили. И стало здание ветшать не по дням, а по часам. Известное дело – без человеческого догляду никудышным становится любое жилище. Бассейн, конечно же, не жилище, но и он пропадал на глазах. Выросшие давно школьники стали родителями, дедушками, и бабушками. Проходя мимо бассейна, они всегда грустили о былом их счастливом детстве, а оно и было таковым.
В одной простой семье рос мальчик Тимофейка. Папка его Владимир Сергеевич, оставшись без работы, стал сильно пить спиртное, известное дело – отсюда и ругань в доме появилась. Мама Тимофея, Нина Демьяновна, терпела и жалела мужа. Тимофей учился в третьем классе и уже второй год занимался в детском хоре Дома Культуры. Часто ночевал у бабушки Веры, которая пекла самые вкусные на свете пироги с капустой и картошкой. Каждый раз, идя на репетицию, Тимофейка останавливался возле трёх берёзок и просил их, чтобы они помогли. Просьбы его были таковыми: чтобы не пил отец, не плакала мамочка, не болела бабушка. А ещё он просил, чтобы на репетиции дети вели себя лучше, не огорчая учителя музыки. Заметил Тимофей, что когда учитель начинал ругаться, то и пели все хуже. Мальчик, конечно же, знал всех участников хора, с двумя – Серёжкой и Вадиком – дружил. Знал он и о том, что в семьях друзей творится то же самое, что и у него, а именно, что взрослые их родители ругаются. Потому однажды после репетиции он подошёл к учителю музыки и сказал:
— Валентина Фёдоровна, вот вы на нас кричите, и дома родители ругаются на нас, между собой из-за того, что наши папы не могут найти работу. Получается, что в школе мы стараемся учиться хорошо, а вы, взрослые, постоянно ругаетесь. Я не хочу становиться взрослым!
Тимофей опустил голову и тихонько пошёл к выходу из помещения. Из накрашенных глаз Валентины Фёдоровны покатились слёзы. Она догнала мальчика, опустилась перед ним на колени, обняла Тимофейку, взволнованно говоря:
— Всё правда, Тимофей, всё правда, я постараюсь больше не кричать на вас.
Мальчик, словно тростиночка, стоял и как взрослый серьёзно смотрел в глаза своему учителю, затем в его личике что-то изменилось, но что именно, Валентина Фёдоровна не заметила, потому что в помещении было темновато из-за экономии электроэнергии. Тимофей тихо сказал:
— Не плачьте, Валентина Фёдоровна, я совсем не хотел, что бы вы плакали. Перестаньте, пожалуйста, плакать, вы очень хороший учитель музыки. Я, когда с репетиции иду, пою «С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки». Мне хорошо делается после такой песни – эта песня как добрая, добрая сказка. Вот если бы взрослые соблюдали то, о чём поётся в песнях таких, по-настоящему чудесных.
Проходившие мимо них работники культуры удивлялись увиденному, словно только что посмотрели спектакль.
Однажды, идя на репетицию, Тимофей увидел, как с крыши бассейна летит старый шифер, и попадает он прямо на его любимые берёзки. Крона его берёзок была повреждена, были повреждены и несколько веток. Работала на здании бригада таджиков, и Тимофейка закричал на них:
— Вы почему моих сестрёнок обижаете?
К нему подошёл толстый таджик, и спросил по-русски:
— Каких сестрёнок?
Тимофей громко и очень взволнованно прокричал:
— Ну вот же, как вы не видите, три берёзоньки-сестрички погибают!
Улыбнулся таджик, что-то по-своему сказал рабочим. Вскоре здание было отремонтировано подо что-то, и когда асфальтировали вокруг – опять же по просьбе Тимофейки – берёзки не тронули.
Удивлялся Тимофей ещё и тому, какие красивые песни они учили, а учили они старые советские песни. В современном мире таких песен не было, и он очень радовался тому, что есть на белом свете эти самые лучшие старые советские песни для детей и для взрослых. Каждый раз, идя на репетицию, Тимофейка останавливается возле трёх берёзок-сестрёнок, просит их о чём-то своём, детском, просит также и рядом растущий огромный тополь, чтобы защищал берёзки.
Самая большая мечта мальчика о том, чтобы папка его не пил и нашёл работу, и он по-прежнему не хочет становиться взрослым…
Анатолий Казаков, православный писатель
Осень, 2018 года.
Если у Вас есть дополнения и поправки или Вы хотите разместить на сайте «Имена Братска» биографии Ваших родных и близких — СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
ВНИМАНИЕ! Комментарии читателей сайта являются мнениями лиц их написавших, и могут не совпадать с мнением редакции. Редакция оставляет за собой право удалять любые комментарии с сайта или редактировать их в любой момент. Запрещено публиковать комментарии содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического характера, или нарушающие иные требования законодательства РФ. Нажатие кнопки «Оставить комментарий» означает что вы принимаете эти условия и обязуетесь их выполнять.