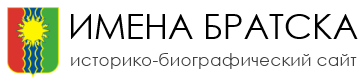ВОТ ОПЯТЬ ОКНО… - ИМЕНА БРАТСКА
ВОТ ОПЯТЬ ОКНО…
ВОТ ОПЯТЬ ОКНО…
повесть
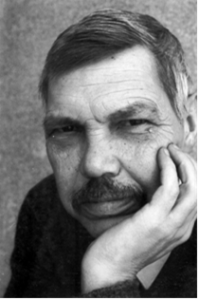
ОРОЧОН (КИСЕЛЕВ) ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Помолись, дружок, за бессонный дом…
Марина Цветаева
Жил-был человек.
Вообще-то, речь пойдет о совсем другом человеке, может быть, речь пойдет совсем о другом. Но все и всегда начиналось с того, что
жил-был
человек…
1.
Человека звали Георгий Николаевич. И был он слесарем-сантехником ЖЭКа. И было ему тридцать лет. Собственно, бывало ему и меньше, но именно с тридцатилетия все и началось.
Итак, стало ему тридцать, и так случилось, совпало так, что на этот день выпало начало его отпуска очередного, который, по единодушному решению профкома, должен был он провести на южном берегу Крыма. Вот, бывают такие везунчики: и собой недурен, и все уважают, и непьющий, и квартира есть, и холост, и лет всего тридцать.
По всему по этому банкет организовали.
Давно это было.
Тогда еще, когда организовывали банкеты.
В три часа сорок восемь минут после вышеуказанного, Георгий Николаевич проснулся в своей однокомнатной благоустроенной на втором этаже. Просыпался он, в отличие от других раз, медленно и тяжело. Долго впопыхах шарил тапки и, не найдя, босиком прошлепал на кухню. Кран свистнул, закричал, смирился, и Георгий Николаевич припал воспаленным ртом к струе воды, холодной и вкусной.
Помогло.
Но мало.
С издевкой над собой, но вспомнил Георгий радикальное средство, рекомендуемое коллегами от тупой боли, что разламывала сейчас затылок.
С мягким укором чмокнула дверца холодильника, вынулась едва початая бутылка коньяка, что стояла там с самого Нового года. Плеснулось в чашку — еще или хватит? — опрокинулось в сохнущий рот.
И, ожидая патентованного чудодейства, стал Георгий припоминать прошедший вечер. Припоминалось смутно и с долей стыда.
Банкет удался. Тут и профсоюз расстарался, и сам юбиляр мошной тряхнул, и коллеги не оплошали. Словом, в «Веснушке» было дружно, весело, шумно. Именинника любили все.
Но больше всех, все-таки, Лариса Ивановна, бухгалтер.
Давно замечал Георгий Николаевич ее особое к себе отношение, но, по застенчивости своей, уверовать не мог, и лишь сейчас, в непривычном для себя легком опьянении и гусарстве, узрел, как сияют ее глаза — для него, как задорна и хороша она — для него! — как понимают они друг друга с полувзгляда и с полуслова.
Они сидели в такси, которое везло их куда-то прямо к небывалому счастью, он сжимал ладонью хрупкую и прохладную ладошку Ларисы, а Лариса, смеясь, говорила, не понижая голоса:
— Хорошо-хорошо, Гоша, но сейчас я поеду домой. Мы еще поговорим с тобой об этом, хорошо? А завтра я приду, соберу тебя, вы ж, мужики, сами ничего не умеете!.. При чем тут Вера Андреевна! Она сама чуть ни к десяти приходит!.. Ну, перестань… Ой, Гоша, какой ты пьяненький за-а-бавный!
А в подъезде своем, куда ломанулся за ней Георгий, бросив купечески таксисту: «я сейчас, шеф!», почему-то шептала едва слышно:
— Домой, Гоша, езжай домой. Завтра… Ой, да ты целоваться совсем не умеешь… Нет-нет, сказала: приду! После… после… ну иди, родненький!..
Вышел он из подъезда, а больше не вспоминается ничего — ни как доехал, ни как домой вошел…
Булькнул Георгий еще в чашку, из чашки булькнул в рот.
Еще лучше стало, легко, безболезненно.
Он открыл форточку, потянулся было за сигаретами, но тут же позабыл про них. Там, за окном, в предрассветном сумраке, с вкрадчивой ласковостью, крапал теплый дождь. Первый летний. Георгий протянул руку, подставляя ладонь этим каплям.
Ладонь его ответно сжала чья-то ладонь. Крепкая. Человечья. Мужская.
Не было ни вспышки молнии, ни удара грома, но Георгий рухнул, потеряв сознание.
В четыре часа тридцать минут ПМГ обнаружила на отмостке дома номер пятьдесят шесть по улице Пихтовой человека. Был он жив, но не при памяти, со ссадинами на лице и ладонях, с ощутимым запашком перегара. Его погрузили в машину и доставили в вытрезвитель. Дежурный, бывший участковый, лейтенант Носиков, зевая, пригляделся к доставленному и пропел:
— Ба-а, знакомые все лица! Это ж Егор Михайлов. Вернулся, значит.
Изъятые из карманов паспорт и справка об освобождении подтвердили, что Носиков ничуть не ошибся. А вот золотое колечко, кулон на золотой цепочке, браслет, серьги и мужские массивные золотые часы заставили Носикова крякнуть:
— Горбатого — могила… Ведь неделя всего, как откинулся. И — снова да ладом! Эх-х-ма!
А когда, оказавшийся не таким уж пьяным, Михайлов открыл глаза и, с места в карьер, понес совершенную чушь, типа «я — не я, лошадь не моя», отказываясь и от побрякушек, и от документов, Носиков, так же устало крякая, стал крутить телефонный диск.
— Я ж тебя, Михайлов, как облупленного знаю, чего ж ты передо мной-то Ваньку валяешь?! Але, але! Дежурный! Комаров? Носиков это. Да. Да! Тут вам клиент есть. Ага. Приезжай, забирай. Нет, трезвый! Приезжайте, говорю! На Пихтовой. Ну? Да. Есть. Есть. Вот видишь! Жду, конечно. У нас не сбежит… Доигрался ты, Михайлов. Тебе ж рэцэдэ корячится, уж поверь. — кладя трубку, обратился он к дергающемуся знакомцу.- Какой Мышкин?! Ну, ты даешь! Ладно, разберутся. А ну, прижми язык!..
Так что, через час, оформив по всем правилам, вопящего всякую ерунду, которую никто не слушал, которой, тем более, никто не верил, Михайлова увезли в милицию.
В половине же пятого в милицию поступило заявление от супругов Супрунских, проживающих по адресу: Пихтовая, дом пятьдесят шесть, квартира тридцать, о квартирной краже. Супруги должны были улететь в Симферополь рейсом 01.50 по местному времени, но рейсу дали задержку на два часа, потом и вовсе отложили сразу до 14.00. Резонно рассудив, что дома лучше, чем на жестких и неудобных аэрофлотских диванчиках, Супрунские сдали вещи в камеру хранения, взяли такси и вернулись домой. Бдительное око Людмилы Сидоровны сразу заметило приоткрытую дверь на балкон, а после того — и пропажу драгоценностей. Позвонили в милицию. А уже через полтора часа, усталые, но довольные, они выходили от оперативного дежурного, оформив все необходимые формальности, восхищенные четкой работой милиции, которая не только обнаружила и задержала преступника, но и тут же вернула под расписку похищенное.
Они поднимались по лестнице своего подъезда. Супрунская взволнованно говорила, что надо обязательно, всенепременно, написать благодарность в газету, супруг лениво ей поддакивал. На площадке второго этажа из двадцать шестой квартиры выходил Жора-сантехник с небольшим новеньким чемоданчиком и весьма премилой девушкой.
— Здравствуйте, Жора! Тоже в отпуск? А вы знаете, нас обокрали! Не успели мы за порог, да-да! Но милиция оказалась на высоте! А вы не боитесь оставлять квартиру без присмотра? — затараторила Супрунская.
— У него и красть-то нечего. И за квартирой я присматривать буду. Вы уж извините, мы очень торопимся в аэропорт, — нахально за Жору ответила девица и, крепко подхватив соседа под локоть, повлекла его вниз.
— Эге-е,- пробуждаясь, игриво протянул Супрунский, — а наш монашек и трезвенник, кажись, оскоромился!
…
Ну, наконец-то. Начало есть.
Честно говоря, я тоже устал, рассказывая все это, завлекая вас, читатели, стремительным детективным сюжетом. Устал. Не пора ли оставить хитрости детективного жанра и сказать откровенно, кто есть кто, и что к чему. Вы ведь сами догадались, конечно, что в момент рукопожатия произошло самое обыкновенное переселение душ. В тело Георгия Николаевича вселилась душа вора-домушника Егора Михайлова. А в рухнувшее с тополя воровское тело — душа сантехника третьего ЖЭКа.
Те, кто не верит в переселение душ, простите меня за отнятое у вас время и со спокойной совестью отбросьте эту повесть. Ибо,
без переселения душ,
все, о чем я поведаю дальше,
у нас, естественно,
никогда
и ни при каких обстоятельствах произойти не могло.
2.
Егор с трудом разлепил веки — под них будто песку сыпанули. С изумлением увидел потолок над собой. Приподнялся с пола, огляделся. Совсем незнакомая кухня. Стенной шкафчик, электропечь, две табуретки, стол, на столе — бутылка, чашка, сигареты, спички, пепельница. Оглядел себя: совсем раздетый, в одних трусах!
«Где я… Как я сюда… Что это? Почему?! Что было?!»
Побаливал затылок.
«Та-ак. Только не паниковать! Спокойно. Спокойненько!»
Вспомнилось все и сразу.
… Наколка была железной. Из хаты хозяева уезжали вечером. Он позвонил для проверки в дверь однокомнатной на третьем. Тишина. Позвонил еще и легко открыл замок, бесшумно затворил за собой дверь. В комнате, в кухне, в туалете, в ванной — никого. Балконная дверь, окна, фортки закрыты. Уехали. Стенка, люстра, ковры, кресла, тахта, телевизор цветной, трельяж, «Электроника», шмотки в платяной секции стенки — все это ему не надо, с этим он связываться не будет. Ага, вот они где. На полочке под бельем. Он в который раз подивился бабьей глупости: все ихие ухоронки наизусть заучены, а у них — никакой фантазии. Взял побрякушки, часы взял. Сало даст за них, конечно, ерунду, да на первое время хватит. Все, надо уходить. Вздрогнул и замер у дверей: в замке шебуршал ключ. Бесшумно вернулся в комнату, бесшумно распахнул балконную дверь (хорошо — догадался сразу открыть), с балкона — на ветки тополя, рискуя сорваться. Перевел дух, начал спускаться. Из форточки на втором этаже прямо под нос высунулась рука. Не соображая, что делает, пожал эту руку. И…
«И что потом? Голова закружилась… Падал… падал… Тогда — почему здесь? Как? Тихо, тихо, не шебутись…»
В квартире было тихо. Темно. Вернее, серо. Он прокрался в комнату. Уф-ф! Никого. Смятая постель на диване, полка с книгами, допотопный «Изумруд» с усатой комнатной антенной, журнальный столик, кресло-качалка. На стуле и полу возле дивана — мужские туфли, брюки, пиджак, рубашка. Комната одинокого мужчины.
«Все. Обошлось… Потом. Соображать — потом! Одеться и дергать…»
Одежда, обувь — как на него шита. Что в карманах — потом посмотреть можно.
Бочком выскальзывая в тесный коридорчик, Егор увидел бледное лицо.
Напряженные нервы затрезвонили, сердце, остановившись было, забухало. Но это было зеркало. Успокаиваясь, Егор подмигнул своему отражению. И остолбенел. В зеркале был не он.
«А-а-а… А! А где же я?!»
Мгновенная догадка обожгла мозг, и бедное, донельзя усталое сознание опять отключилось.
Очнулся он, как ни странно, совершенно спокойным, с ясной головой, словно просто хорошо выспался.
«Значит, он — я, а я — он. Ладно, посмотрим, кто теперь я.»
Во внутреннем кармане пиджака — бумажник. Так. Паспорт, военный билет, в паспорте — билет на самолет. Путевка в санаторий. Тощенькая пачка четвертных, два письма. Так. Мышкин Георгий Николаевич. Ишь ты, имя подходит и возраст — всего на три месяца меня моложе. Санаторная карта. Так. Слесарь-сантехник. Нну! Уж это — как в кино: сколь совпадений-то. В СПТУ, пока не загремел, этому учился. Самолет — сегодня, через несколько часов, путевка на восемнадцать дней. Крым! Ни разу не был; в санатории — совсем в другом. О! Записнушка! Потом изучим. Письма — тоже после. Так.
«Ну, елки-палки, граф Тульев, он же Зароков!..»
Почти совсем уже спокойно он разглядывал отражение в зеркале. Новая оболочка ему понравилась. Черноволосый и кареглазый, нос с горбинкой чуть свернут набок, тонкое сухое лицо обтягивает смуглая кожа с сизой щетиной на щеках и подбородке. Прищурясь и чуть улыбаясь тонкими губами, смотрел на Егора тридцатилетний мужчина, стройный, хорошего роста. «Что ж, шухнулся я нормально, не прогадал.»
Совсем уж невозмутимо изучая данные о бывшем владельце своего тела, Егор прошел на кухню, выпил коньячку, закурил «Ту». Идя на дело, он, как всегда, накатил стакан водяры — от мандража, но не больше: голова должна быть ясной. А сейчас вмазать было просто необходимо. Высунулся в форточку: никого, никаких следов, кроме обломанной ветки под деревом.
«Где сейчас этот-то? Убился? Свихнулся со страху? Свихнешься тут! Сам-то как не съехал! Не-е, нервишки еще — ничего!.. А не свихнулся? Начнет права качать, доказывать? Хрен кому чего докажет! Ведь я — он. И при документах. А он — при моих. И тех еще! Да с побрякушками. Если хозяева в дверь торкались, сейчас уже все менты — на ушах. Если не свихнулся, сообразит — выбросит. Или заначит. И вообще, — пес с ним. Кого е… чужое горе!»
Егор широко по-детски улыбнулся: «Ну, подфартило! С месяцок хоть погуляю честным фрайером. А там… Война план покажет!» Жизнь научила его надолго вперед не заглядывать.
3.
И потому, летя на изящном ТУ-154 из Крыма, Егор так же широко и по-детски улыбался. Страхи были. Но он умел загонять страхи в самый дальний угол. Все так же ощущал он себя героем какого-то детективного фильма. Три недели крымской идиллии обнахалили его донельзя. За эти три недели он почти полностью влез в шкуру Жоры Мышкина. Знакомясь на пляже, он представлялся: «Мышкин. Нет, не князь, — сантехник.» И с удовольствием отмечал неверие в глазах новоиспеченных знакомцев и знакомок. Подтверждалась старая истина: чем больше говоришь правды, тем меньше верят тебе, чем нахальнее врешь, — тем легче верят. А здесь, на отдыхе, чего только люди не сочиняют про себя, про свою работу!.. Секретарша становится манекенщицей, снабженец — коммерческим директором, а какой-нибудь фотограф из Краснопупска — оператором центрального телевидения. Смех! Одна из знакомок «раскусила» Егора и торжественным шепотом сообщила ему, что никакой он не сантехник, а засекреченный сотрудник КГБ. «А скажи я ей, что вор, — за космического шпиона бы приняла?»
Но вообще-то знакомствами он не очень увлекался. Все же держался настороженно, да и «почтовый роман» отнимал много сил и времени. Эта Лариса… Да, были в его жизни бабы, да все случайные, все с каким-нибудь да ущербом. Это из-за них травят на нарах про роковую любовь с артистками и дочками прокуроров. Не было у Егора ничего такого. И таких, как эта Лариса, не было. Она ворвалась в его жизнь тем сумасшедшим утром. И, похоже, никуда исчезать не собиралась, а располагалась в этой жизни, хоть и не нахально, но основательно. Егор, сначала с удивлением, а потом все больше привыкая, ловил себя на том, что ничего против этого не имеет.
Тем утром…
Он уже побрился бритвой Георгия, уже по-хозяйски укладывал в чемодан вещи, когда открылась дверь, и влетела она.
— Живой? Уже собираешься? Молодец! А то я думала — тебя не поднимешь: все же вчера лишнего ты выпил. Я тут тебе кофе принесла. С лимоном! О, ты уже похмеляешься? Ну, прогресс! Девочки обалдеют, если узнают… Слушай, Гоша, я такси заказала, скоро должно подойти, ты поторапливайся. Дай-ка, дай, я сама соберу, а ты пей кофе — помогает же. А то ты все еще в себя прийти не можешь, бедненький! Билет взял? Документы? Проверь, проверь. А деньги лучше все в одном месте не держи — мало ли что. Да что с тобой? Стыдно, что перебрал вчера? Да все хорошо, Гоша, глупенький, ты такой славный, — потерлась носом о его щеку.
Под этот монолог Егор лихорадочно и мучительно соображал: кто она, зачем и почему здесь? Ну, зачем, — ясно: собирает в путь-дорогу. А кто? Сестра? Жена? В паспорте штампа нет. Сожительница? Никаких следов женщины в этой квартире. Как хоть зовут-то ее?..
То, что он молчал, изредка хмыкая, агакая и угукая, глупо улыбаясь, помогло ему многое прояснить: Лариса, сама того не подозревая, выложила в считанные минуты кучу сведений и о себе, и о нем.
А целуя его на прощанье в аэропорту, вдруг засмущалась, бодрым, но осевшим голосом сказала:
— Ты ж пиши. Я тебе в чемодан конверты положила. Надписанные. Это чтоб ты не отговаривался, что адрес не помнишь. Хитрая я?
— Нет, — искренне ответил Егор, — ты совсем не хитрая. Ты глупая и хорошая.
Семь писем за три недели. Лариса простодушно и подробно рассказывала в них, как дела на работе, посмеивалась над беспокойством своей матери о неустроенной личной жизни единственной доченьки, писала, что намекнула маме о возможных переменах. Да, много чего узнал Егор. И про себя тоже. Не только про того, в чьей оболочке он теперь обретался, — про себя. Никогда он не думал, что тоска по близкому, родному человеку жила в нем все эти долгие и не очень-то веселые годы. Не думал, что, считая себя знатоком людей, не веря им, презирая их, особенно женщин, он так сразу, так неудержимо потянется к этой, вовсе ведь незнакомой, Ларисе, что о ней он будет думать в эти южные дни и ночи больше и чаще, чем даже о себе. Одергивал себя, издевался над собой. И ничего не мог поделать. Замаячила надежда пожить по-людски: иметь дом, работу, подругу…
А на письма отвечал через два на третье, осторожничая, боясь попасть впросак, вспугнуть этот слабенький еще свет. Лариса пеняла ему на это, но не слишком, мол, какой в жизни молчун, такой и в письмах. И все же, в письмах-то у них так все складно складывалось…
Да, письма. Те два письма из бумажника Мышкина были от директора детского дома из старинного сибирского городка. Предшественник-то, оказывается, тоже детдомовец! «Так, может, он и впрямь — я, и сейчас судьба исправляет то, что напетляла-напутала со мной?.. А этот директор, видать, хороший мужик. Редко ж кто, выросши, пишет своим учителям. Особенно в детдом. Своему я, если б и написал, дак такое, что он враз бы читать разучился. А тут все иначе. И сам этот Гоша, вроде, парень неплохой. Ишь, какие слова ему и этот директор, и эта Лариса пишут… Ну, про Гошу пока замнем. Тем более, что, кажется, снижаемся. И сейчас в аэропорту будет встреча с Ларисой. Надо подготовиться. Есть мандраж? Есть. Но и уверенность, что все будет путем. Все будет путем.»
4.
Но вас, читатели, вероятно, интересует и волнует: а что же было, что стало с Георгием Николаевичем, с Жорой Мышкиным? По-правде, мне-то интереснее рассказывать о дальнейшей судьбе Егора Михайлова. И, хотя я только что поймал себя на том, что сюжет моей повести несколько схож с историей о принце и нищем, мне не очень-то хочется уподобляться гиганту Твену и вести параллельный рассказ о том и другом своих героях. Конечно, вооружась красками и яркими и мрачными, я мог бы живописать, как бился в истерике Георгий, как впал в депрессию, обнаружив себя в чужом теле, как медицинская экспертиза признала его вполне вменяемым. Как, не клюнувший на уловки вора-рецидивиста, следователь возликовал, получив заключение этой экспертизы, и быстро и элегантно завершил следствие. Как суд, возмущенный злостным и бессмысленным запирательством подсудимого, выдал ему по-совести и сполна…
Или нет, следователь был честным и добрым человеком средних лет, не чуждый поэзии, которой всегда присуща некоторая мистика, а потому, если и не признающий, то и не отрицающий огульно мистику, загробную жизнь, переселение душ, высший разум, НЛО и т.д. Но что он мог сделать, этот добрый человек, обремененный семьей, инструкциями и сроками делопроизводства? Мистику-то к делу не пришьешь. А ничего не мог. И суд, возмущенный…
Нет, на суде Георгий уже ничего не отрицал и только в последнем слове начал было классически: «Граждане, послушайте меня!..» — но тут его голос прервали рыдания, он бессильно махнул рукой и сел на свою скамью, на скамью подсудимых. И суд выдал ему по-совести и сполна.
Тут я и расстанусь с ним, расстанусь надолго, не последую ни в камеру, ни на этап, ни на зону. Ведь я предупреждал, что речь пойдет о совсем другом человеке, совсем о другом. Не взыщите.
…
А у Егора все было путем. Оставшиеся десять отпускных дней провели они с Ларисой — она встретила его в аэропорту и осталась с ним ночью. Это была прекрасная ночь. Поначалу Егор боялся неловкостью, нечаянной грубостью обидеть Ларису, причинить ей боль, но она смогла все сделать так, что он забыл свою боязнь, и было им чудесно. На рассвете, вглядываясь в утомленно-счастливое лицо крепко спящей Ларисы, Егор боялся уже только одного: что эта ночь случайная и единственная, что Лариса исчезнет — уйдет, улетит. Или ему придется уходить, убегать.
Она не ушла. Через неделю приехала из поселка за сотню верст ее мама. По общему решению свадьбу играть не стали, а устроили тихое семейное торжество. Без посторонних. Решили и сделали.
Зять теще понравился. Помогая Ларисе убирать и мыть после застолья немногочисленную посуду, она выдала ему свою короткую характеристику:
— Простой. Самостоятельный, вроде. Пьет-то шибко?
И, услышав, что вообще почти не пьет, окончательно успокоилась и наставляла уже Ларису:
— Ты его не очень-то прижимай. Командовать любишь, а мужик — ему волю маленько давать надо. А то затоскует да как сорвется — куда-а, девка! Наш-то отец, уж на что тихоня, а ведь взбрыкнул и алиментов не забоялся. Ты ж смотри…
— Ладно, мама, не буду я его дискриминировать, — снисходительно улыбнулась Лариса.
— И не гордись перед ним, что ты — начальство, а он — работяга, — слегка обидевшись за непонятное слово, ввернутое дочкой, продолжала мать, — рабочие-то сейчас поболе начальников других получают. А твой?
— Мой — тоже, — успокоила дочка.
— Во-от.
А утром, когда Лариса убежала на работу, свежеиспеченная теща засобиралась домой.
— Что ж вы и не погостили даже? — забеспокоился Егор.
— А чего ж я вам мешать-то буду? — напрямик ответила теща. — Слышала, как ты ночью-то на кухне ворочался. Да и хозяйство у меня.
И, усмехнувшись на смущение Егора, вдруг всхлипнула, обняла его.
— Ты ее не обижай. Одна она у меня.
— У меня тоже, — ласково ответил Егор, чувствуя, что и с тещей ему повезло.
Все было путем до того самого дня, когда утром, переодеваясь в бытовке, не услышал Егор за своей спиной:
— …и раньше-то был не от мира, а теперь, после отпуска да женитьбы, похоже, совсем сдвинулся. В партию, что ли, собрался?
— Да брось ты, Колюня, какая партия, — Гошка парень нормальный. Вот разве — все сам по себе.
Кожа на лице Егора стянулась и похолодела — верный признак крайнего волнения. Внешне спокойный, он обошел ряд шкафчиков и обратился к говорившим:
— Привет! Вы про меня, что ли?
Низенький Шурик, сорокапятилетний мужик, хороший товарищ и плохой сантехник, смущенно покашливая, молча протянул руку. А разговорившийся уже Колюня, дыхнув перегаром, выложил:
— Про тебя, Гоха, про тебя. Это что ж получается? Ладно, ты то ли в баптисты записался, то ли чо ли, но ты со своим альтруизмом нам всю малину… Вчера пошел в сорок третий по заявке, во вторую. Там дед такой, весь из себя интеллигентный, гвоздя, небось, забить не умеет. В ванной у него смеситель течет, сгнило все давно. Менять, говорю, надо. Да, отвечает, я уж сколько раз к вам в ЖЭК обращался. Так нету, говорю, смесителей-то. А он мне: вы обязаны, грамотный весь до не могу. Ладно, говорю, сменю вам, свой личный поставлю, но, сами понимаете, стоить будет. И тут он меня, как обухом по лбу: а вот три недели назад мне ваш сантехник унитаз менял — принес, поставил быстро и аккуратно, и ни копейки не взял. Это кто же, интересуюсь. Ну, описал: высокий, мол, вежливый, худощавый, на этого, на гасконца похож. Ну, понял я, — кто. Так что ты, Француз, можешь, конечно, хоть всю жизнь по нарядам получать, а о людях ты подумал? У Шурика вон, двое, дочь уже невеста, да жена больная, не работает — ему-то как вчетвером на одну зарплату? Выходит, ты — хороший, а мы — дерьмо? Мы людей обираем? А инструмент, а запчасти за пузыри доставать, потому, что начальство не чешется, где денег напасешься? Да за нашу работу по-настоящему платили бы — что ж я, гад, — с жильцов пузыри да пятерки брать? А так — куда деваться, а? Скажи, куда?
Егор стоял растерянный, молчал. Что сказать Колюне? Выйдя на работу, сразу решил для себя: жить честно. И у клиентов ничего не брать — ни угощения, ни троек-пятерок. Была в этом решении и доля мстительности — не надо никаких подачек от этих благополучных. Ах, как нужен был пятнадцать лет назад ему один-единственный червонец — откупиться от мордоворота Гвоздя! И никто, никто не дал в долг, никто не согласился дать заработать малолетке. С той первой кражи и пошло-поехало… Теперь — никому ничем не обязан, кроме рук своих. Да слепой случайности. Ни от кого ничего не надо!
Оказывается, кроме, как о себе, обязан думать еще и о тех, с кем работаешь. Они-то, правда, в чем виноваты, — хозяева ж сами почти всегда суют? Выходит, подставил их? Положение.
Глухо ответил:
— Не знаю, мужики. Вы — как хотите. Буду делать, как делал.
— Будешь, — почему-то спокойно подтвердил Колюня, — тебе, может, и медаль еще дадут. А мы — рвачи, хапуги.
— Этого не говорю. Говорю — как хотите.
— Слушай, Француз, — так же спокойно предложил Колюня, — не берешь, и не бери, хрен с тобой. А вот его, Шурика, взял бы ты к себе в напарники. Ты — специалист и к начальству прибился… да шучу, шучу! А все ж на хорошем счету, и заявки тебе хорошие, не по блату — по справедливости. Ему-то не доверяют ответственной работы, да он же не виноват, что руки не оттуда выросли. Старательный же мужик, а вот…
— Согласен, — не раздумывая, обрадовался Егор, обретая сразу и напарника и новую кликуху. Он понимал, конечно, что, работая с ним, Шурик не откажется ни от бутылки, ни от пятерки, но против этого ничего не имел. Вовсе не хотел он быть проповедником. Хотел жить честно и спокойно.
Шурик молча засветился радостью. Просветлел и Колюня.
— Ну и ладно! После работы пивка попьем?
Слывя трезвенником, Егор спиртного избегал теперь. И, что странно, не тянуло даже. Но пиво он любил, потому и на это сразу согласился.
5.
Странно устроен человек. Еще полгода назад Егор не мыслил себя в иной жизни, кроме той, которой жил с пятнадцати лет. А сейчас — будто и не было ничего такого в прошлом, будто всю жизнь было вот так: работа, дом, маленькие радости быта. И в этой незамысловатой, размеренной жизни находил он удовольствие. Ему это нравилось! Ему, любившему риск, широкие загулы после удачных дел, почти постоянное нервное напряжение, ожидание удара неизвестно откуда, и готовность отразить этот удар. Да видно, не слишком велика была эта любовь, и Егор, не лукавя перед собой, признавался себе же: больше-то внушал он себе, что все такое ему понравилось-полюбилось когда-то. Может, и впрямь, родился он для честного труда и для тихой семейной жизни без страстей и без затей, просто судьба досталась ни к черту.
Шелестела, шуршала желтыми, рыжими, красными, багряными сухими листьями осень, познабливали утренники, нежило полуденное солнышко, тишь да гладь да божья благодать стояли в мире. А когда налетал злой северо-западный ветер, швыряя колючий холодный дождь, поднимая и шлепая обо что попало листья, было особенно хорошо чаевничать поздним вечером на маленькой уютной кухоньке, поглядывая в запотевшее, плачущее окно, а после, открыв фортку, пускать в темноту и слякоть струйку теплого табачного дыма, ожидая из комнаты полусонный и привычный уже зов Ларисы: «Гоша, ты спать думаешь ложиться? Завтра ж вставать рано.» И он торопливо гасил окурок, шел в ванную, потом в комнату на мягкий свет ночника. В этом свете тускло отливали медью всегда расчесанные ларисины волосы. Ни разу не видел он ее растрепой или в бигудях на ночь, или по утрам в халатике незастегнутом. На этот счет у Ларисы были твердые правила, и она их неукоснительно соблюдала, как бы ни уставала после работы и беготни по магазинам или за учебниками своего заочного института. А однажды сказала даже:
— Знаешь, Гоша, вот у англичан муж в спальню жены без стука никогда не входит, а тем более — неодетым. И потому у них встреча жены и мужа в постели — событие, праздник. Правда, здорово? Хорошо бы и у нас так…
— Хорошо бы, конечно. Только вот мы двое живем, а комната у нас одна: и твоя спальня, и моя, и тебе кабинет, и столовая, и гостиная. А у напарника моего, у Шурика, в такой же однокомнатной — четверо. По утрам — в туалет очередь, в комнате повернуться негде, не то что… Так ему с женой, когда вдвоем остаться удастся — действительно событие. Старшей-то почти семнадцать уже, и пацану десять, а комната — как была одна, так и есть. Двадцать лет скоро, как на расширение стоит. А ты — англичане. Англичане-то, которые такие же работяги, тоже, небось, так, если не хуже. Ты газеты-то почитай. Это уж лорды там, бизнесмены…
— Да ну тебя! Что ты мне политинформацию проводишь! Вон Вера Андреевна ездила в круиз, была в этой Англии тоже. Да, если хочешь знать, английские-то рабочие в десять раз лучше наших живут.
— Сама она, что ли, видела?
— Ну да — сама!.. Гид говорил. В таких поездках, знаешь, как строго: все везде вместе, никаких контактов, а то потом дома неприятностей не оберешься. Хорошо, если просто больше за границу не пустят, а то ведь и с должности, и с работы могут… Ты что — «сама»!
— Ну вот! Гиду-то, небось, платят, чтоб он так говорил! Если в десять раз лучше живут, чего ж у них и безработные, и забастовки, и вон министров в отставку выгоняют?
— С того и бастуют, что еще лучше жить хотят!
— С жиру, что ли, бесятся?
— Знаешь, Гоша, — уже жалея, что затеяла этот разговор, потухшим голосом сказала Лариса, — давай спать, а то мы с тобой черт те до чего договоримся. Было бы из-за чего спорить!
— И то правда, — успокоенно обнимая ее, сказал Егор.
А осень длилась, продолжалась, и бабье лето давно кончилось, и уже снежок пробрасывал, и близилось Седьмое ноября. И Славка, вместо того, чтобы бегать по заявкам, изготовлял из фанеры какую-то замысловатую жэковскую эмблему на демонстрацию и малевал лозунги и транспаранты, и размалевывал праздничную стенгазету аврорами и знаменами в лучах прожекторов.
В последний предпраздничный день, когда и работа уже — не работа, перед обедом прибежал возбужденный Шурик.
— Гоша! Ну, брат, опять ты без напарника остаешься. Ухожу я…
— Куда эт тебя понесло?! — встрял уже поддатый, впрочем, как всегда, Колюня. — Да где ты лучше-то найдешь, да такого напарника-наставника!
— На самострой, мужики, на самострой!
И, обычно немногословный, Шурик, захлебываясь, поведал что сейчас собирал начальник очередников на квартиры, тех, кто первыми стоят, и предложил поработать на строительстве новой четырнадцатиэтажки, в которой им выделяют квартиры. Работа, правда, в основном, — «подай-поднеси», и всем огулом дают только второй разряд, и работать надо по десять часов без выходных, но зато к Новому году в этом доме уж точно дадут квартиру.
— Трехкомнатную, представляете! Начальник сам сказал: хоть ты, мол, Терпугов, стоишь на двухкомнатную, но, поскольку дети у тебя разномастные… тьфу! — разнополые, имеешь полное право на трех. Да за это я и вообще даром работать бы согласился! Мужики! Два месяца всего — и трехкомнатная!
— Н-да-а, — протянул Колюня. — С заработком ты, конечно, пролетаешь. Да на твоем месте, однако, и я б подписался… А не жанитесь, парни, рано — после будете жалеть! Ну, дерзай. Два месяца лапшу одну будешь есть и про проклятую забудь. Как святой! Смотри только, не накололи чтоб!
— Что ты, Никола, железно — там от горстроя представитель был, подтвердил.
— Жаль, конечно, Сергеич, — не кривя душой, сказал Егор: он привык к суетливому, неумелому, старательному невезучему Шурику, — но раз такое дело…
— Раз такое дело, надо отметить, — полез в свой шкафчик Колюня.
— Что ты, Никола, что ты! Еще ж торжественное сегодня. Мне сейчас залетать никак нельзя, — всполошился Шурик.
— Ты гляди, что собственность с человеком делает! — возмутился Колюня, протягивая наполненную уже кружку и кусок хлеба с солью Шурику. — Не бзди, начальники сами сейчас уже вовсю праздник отмечают, поди.
Шурик виновато посмотрел на Егора, воровато на дверь и принял. Поднес, было, ко рту. И вернул Колюне.
— Не! Не буду. Знаешь, Колюня, мне сейчас и так хорошо.
— Во дает! — восхитился теперь Колюня.
А на торжественном собрании новая неожиданность подстерегала и Егора, и его напарника. После нудного доклада, Иванов, главный инженер, он же председатель профкома, стал зачитывать приказ по ЖЭКу:
— В ознаменование… годовщины Октября… и производственные успехи… награждаются… Мышкин Георгий Николаевич — почетной грамотой и денежной премией в размере двадцать пять рублей…
Под радостные аплодисменты (собрание идет к концу!) Егор пробрался к столу президиума, принял грамоту и конверт, пожал руку Петру Тарасычу (и за что только злые языки приклеили главному инженеру непотребную кликуху — Пидарасыч?!). Ему было радостно и неловко, как в далеком-далеком детстве, когда редко, ох, как редко! он отвечал у доски на «пятерку».
Едва он на своем месте пожал протянутые пятерни Колюни и Славки, и Шурика, как Тарасыч продолжил:
— … Терпугов Александр Сергеевич — почетной грамотой…
Сантехники и электрики, плотники оглушительно забили в ладоши, одобрительно заржали. Впервые за долгие годы фамилию Шурика назвали в такой ситуации, хотя, в небольшом коллективе, грамоты по праздникам вручались чуть ли не в определенной очередности. Сконфуженный Шурик, принимая грамоту, раскланивался, как артист самодеятельности. Зал вовсе развеселился.
Тарасыч сказал:
— Ждем тебя, Терпугов, в Новом году обратно. Если б не такая ситуация — ни за что б не отпустили. Да, растут у нас люди, товарищи, растут!
Шурик плюхнулся рядом с Егором, горячо схватил его ладонь, в ответ на поздравление прошептал:
— Я ж понимаю: и эта — твоя грамота. Если б не ты…
А пошел ты,- ласково ответил Егор, не уточняя — куда.
6.
— Гоша, ты что, Гоша! Проснись, миленький!
— А? Что? Ты чего? — хлопал глазами Егор. Лариса трясла его за плечо, тревожно глядя в лицо.
— Ты так матерился, а потом так страшно застонал — я аж испугалась! Страшное что приснилось? Скажи. Я ж от тебя никогда не то, что мата, ругательств никаких никогда не слыхала…
— А-а… да, приснилось что-то. Не помню. А насчет матов, кстати, хочешь, анекдот расскажу?
Лариса, как всякая женщина, анекдоты любила и, сразу позабыв про сонные стоны мужа, кивнула и приготовилась слушать.
— Это, родители заудивлялись: детки из садика приходят и матами кроют, почем свет. Ну, собрались они и пошли к воспитательницам. Так, мол, и так, мы понимаем, что работа у вас тяжелая, нервная, но ведь дети же! А те отвечают: «Что вы, что вы, мы ж педагоги, мы при детях — никогда. А вот тут у нас два сантехника работают, сами понимаете, — работяги, народ грубый…» Родители к тем, так, мол, и так. А один и говорит в ответ: «Да вы что! Мы ж понимаем, мы чтоб при детях! Вот вчера, к примеру, напарник мой мне чугунную батарею на ногу уронил. Дак я ему только и сказал: «Сеня, извини, но ты неправ!»
Лариса звонко, от души расхохоталась, но, глянув на потолок, испуганно прикрыла рот ладошкой: слышимость в панельном доме была та еще, смех мог переполошить Супрунских, и потом от их вежливых нотаций не продыхнуть полмесяца. Отхихикавшись в ладошку, Лариса глянула Егору в глаза и очень серьезно начала:
— Гоша, скажи мне, только честно…
Егор весь внутренне съежился: значит, не отвлек анекдот Ларису от вопроса ее.
— …ты есть хочешь? — она не выдержала и, давясь смехом, уткнулась в подушку.
— Хочу! — удивленно и радостно, а главное, совершенно честно ответил Егор и, подхватив Ларису на руки, потащил ее на кухню.
— Мы с тобой ненормальные — есть в пятом часу утра, — удивлялась Лариса, доставая снедь из холодильника. Раскрасневшаяся, оживленная, совсем шкода-девчонка, она вдруг забыла все свои английские заповеди, и то, что Егор сидел в одних трусах, а она в одной ночнушке, ни его, ни ее на этот раз не смущало.
Когда кофе был выпит, и они немного покурили (Лариса время от времени баловалась сигаретой, и Егору это почему-то даже нравилось), она лениво потянулась:
— Ой, кажется объелась, вставать лень. Гош, отнеси меня назад, а?
На диване она не выпустила его шею из кольца своих приятно прохладных рук, и, когда он тревожно глянул на будильник, тихо и радостно рассмеялась:
— Ты совсем уж заработался. Сегодня же суббота, можно спать хоть до обеда. Ну, иди скорей…
Помнил Егор свои сон, помнил от начала до конца. Лариса давно сладко посапывала ему в плечо, а он все таращился в медленно светлеющий потолок. Осторожно отодвинулся. Лариса разулыбалась во сне и повернулась на другой бок. Поднялся, прошел на кухню, зачем-то включил свет, хотя за окном уже почти рассвело. Форточку открыл, закурил. Ну и что? Легче-то не стало.
Сон был стремительным и жутким. В нем, в сумраке, шел, не спеша, Егор через какой-то пустырь. Было безлюдно, очень тихо, только снег под подошвами поскрипывал, хотя Егор не шел, а почти парил над землей. И послышались сзади шаги — все ближе и ближе. Медленно-медленно, в воздухе, как в воде плотной, обернулся Егор. Его догонял старичок в демисезонном пальто, седенький, благообразненький. Догонял и вынимал руку из запазухи, а в руке хищно блестел нож. Егор ни с места сдвинуться не мог, ни крикнуть. В полушаге от него, с занесенным уже ножом, старичок остановился и вежливо и спокойно произнес:
— Извините, ошибся.
— Ничего, бывает, — так же спокойно ответил Егор, и они, повернувшись, пошли в противоположные стороны. Каким-то образом Егор видел удаляющуюся спину старика. Вот остановился тот снова, снова глядели они друг на друга.
— Извините, вы ведь не Мышкин?
— Нет, я Мышкин. Мышкин я!
И тут старичкова рука стала удлиняться, удлиняться, нож медленно достал до Егоровой груди и так же медленно, с вкусным капустным скрипом, вошел в сердце, вытесняя из груди дыхание.
— За что, падла, зачем убиваешь?! — захрипел-заматерился Егор, валясь на свежевыпавший снег.
— А не преступай!
И Егор понимал, чувствовал, что это — расплата за то, что он жил в чужой шкуре, что не был самим собой. И боль, и обида на несправедливость переполняли его, а старичка уже не было, а было низкое серое небо, и снежинки падали на его незакрытые глаза, и он был мертв, хотя все видел и слышал. И над ним склонилась Лариса:
— А я знаю, кто ты. Знаю и не прощу.
— А я знаю, кто ты. Знаю и прощаю.
— А я знаю, кто ты. Знаю и люблю.
И ничего не мог он сказать ей, ничего. Боль переполнила грудную клетку, и с горестным криком вылетела оттуда душа.
И курил, курил Егор на рассвете, содрогаясь от утренней прохлады и нестираемых видений этого сна ночного. Наизнанку выворачивал душу этот сон. Нет, видно, умом-то решалось одно, а сердцем помнилось и понималось другое: на чужом горе покой и счастье стоят. И, чем спокойнее и счастливее ему будет, тем больше то горе быть должно, иначе закачается все, как сейчас, зашатается и рухнет. Днями-то загонялось все это в тайники души, в закоулки мозга, а теперь вот, во сне, и выглянуло.
» А что я могу, ну что? Ничего ведь. Хотя бы узнать, как он, где. Ага. Узнать можно. Тихо, осторожно справочки навести, знаю ведь, — у кого. Себя только не засветить. Жив если, если на зоне, а где ж ему еще, если живой, быть, а в психушке, ну все равно… Узнать адрес, узнать. Написать… Нет, писать нельзя — спалишься. А посылку-то, переводик-то можно послать. Не со своего адреса только, не от себя будто. Поймет же он? Должен понять, что нельзя, ну, ничего нельзя изменить, ведь не сам я, и он — не сам… Да, узнать, узнать. Поймет. Он поймет. Если жив…»
7.
Перед самым Новым годом, после двух выходных, сидел Колюня в понедельник в бытовке и сокрушенно рассказывал:
— В пятницу-то, деньги когда получили, ты еще со своей в кино собирался — сходил, нет? — а моя как раз на неделю к сестре поехала. Ну, оставила мне стольник и холодильник полный харчами набила, с голоду не помер чтоб. А мы с мужиками, конечно, получку решили обмыть. Затарились, а куда идти? — кобры же кругом. А моей нет. Пошли, значит, ко мне. Славка, я, еще двое, ты их не знаешь. Короче, очухиваюсь я вчера утром. Бутылок пустых — море, бардак, денег — рупь двадцать, и в холодильнике — токо банка кильки недоеденная. Н-да. Думал-думал — вернется моя — вою же не оберешься! Думал-думал, решил бизнесом заняться, чтоб хоть немного возместить. К соседу — он всегда при деньгах. Дай, говорю, червонец. Дает. Ломлюсь в вино-водочный. Толпа, конечно. Давился-давился, чуть не крякнул с похмела. Взял, конечно. Хотел на автостанцию отнести да толкнуть за четвертак. А так жалко себя стало! Я ж еле живой из очереди вылез, здоровья ж нет, и трубы горят! Ну и выглохтал сам. Опять совесть гложет. Пошел к соседу, займи, мол, еще чирик. Дает. Ну, взял еще. Стою с пузырем на автостанции, а неудобно — сроду ж не торговал. Тут подходит один. «Есть?» — Есть. — «На,» — четвертак мне сует. Ну, воспрянул я! Опять в эту лавку, беру еще две. Щас, думаю, опять толкну, и полтинник будет, уже легче отмазываться-то. Стою так, пузыри в карманах, горлышки спецом выставил. А тут комбинатские со смены приехали, мужики валом валят. Подходят четверо сразу, все гренадеры. «Чо, мужик, водка у тебя?» — Ага! — Один — хвать пузырь у меня из кармана: «Тебе одному — две много будет!» И пошли. А я стою, обтекаю: в драку кидаться — дак их четверо, да амбалы; в милицию — мол, водкой спекулировал, да отобрали? Н-да!.. Плюнул, пришел домой и засосал с горя этот пузырь — и на кой хрен я в этот бизнес полез!..
Егор слушал внимательно, стараясь не расхохотаться, когда Колюня закончил, не раздумывая, сказал:
— Выручу я тебя, Колюня, есть у меня…
— Впрямь, выручишь? Ну, брат! А то ведь до пасхи скулить моя будет, как вернется. Я хоть продуктов накуплю, а получку, скажу, вытащили в автобусе.
Егор в последние дни после работы и в выходные шабашил, делал канализацию одному сумасшедшему дачнику — хотелось к Новому году Ларисе не безделушку, какую попало, подарить, а что-нибудь небольшое, но ценное и красивое. Но Колюню надо выручать. Он, хоть и бухает постоянно, хоть и на язык злой, а мужик-то путевый. Такой не продаст.
Повеселевший Колюня, приняв у Егора деньги, несуетливо засовывал их в гомонок и вдруг, пристально взглянув на Егора, задумчиво сказал:
— Не пойму я тебя, знаешь. Вроде, и дело ты знаешь, и мужик свой, не жмот, а все как посторонний. Как в другом мире живешь. Иногда как сделаешь или скажешь что — ну, будто вчера родился. Работал я лет пятнадцать назад с одним. Тоже парень, вроде, нормальный — и выпьет, и анекдот траванет, а то смотрит в глаза, и чувствуешь — сквозь тебя смотрит. А он, оказывается, стишки сочинял. Ага. Не хухры-мухры, его потом книжку напечатали, читал я — нормально, без дураков, без «народ-вперед». В этот, в Литинститут поступил после. Ты, Гоха, случаем, стихов не сочиняешь?
— Еще чего! — внутренне поеживаясь от колюниной внимательности, рассмеялся Егор. — Это ты после торговых переживаний такое надумал?
— Да нет, — все так же серьезно ответил Колюня.- Есть в тебе это — как не здесь ты всю дорогу.
— Значит, инопланетянин.
В бытовку заскочила Галка-мастерица.
— Голых нет? Вы что до сих пор прохлаждаетесь? На планерку давайте. Семенов прощаться сегодня будет — новый теперь у нас начальник! Что-то будет? Старик воды не замутит, а этот со стороны да молодой еще — новая метла…
— А в нашем бардаке никакой метлой порядок не наведешь, — мгновенно переключаясь, огрызнулся Колюня, — Ну, пошли, что ли…
— … Разрешите представить вам вашего нового начальника, Аркадия Николаевича Миропольского, — седой, с вьющейся шевелюрой, Семенов походил сразу на нескольких выдающихся киноактеров. В самом же в нем ничего выдающегося не было — по работе — ни рыба, ни мясо, все в ЖЭКе делалось без него, хоть он и подписывал приказы. — Товарищ молодой, энергичный. Думаю, наш славный коллектив поможет ему войти в курс дела, и вообще…
В кожаном пиджаке и при галстуке, высокий, сухощавый, с тонкой полоской усиков на верхней губе, новый начальник смахивал обличьем на грузина. Весело и бестрепетно оглядывал он славный коллектив, словно говоря: «Что ж, поработаем!»
— А где до нас работали? — спросил кто-то из женщин.
Миропольский охотно и безо всякого акцента ответил:
— А до вас я работал инструктором райкома комсомола, товарищи.
— А за что ушли? — встрял бестактный Колюня.
— Да вот, решил перебраться в город, семь лет я отдал сибирской деревне, как вы думаете, заработал право приобщиться к цивилизации?
— Может, лучше б деревню к той цивилизации приобщить, — не унимался Колюня.
— Сазонов, придержи язычок-то! — вступился за нового начальника Пидарасыч, — Контингент у нас, Аркадий Николаевич, сами видите, но работаем на уровне, в хвосте не плетемся, с вами, думаем, добьемся новых успехов.
— Я тоже так думаю. В этой пятилетке, товарищи, перед страной, и, значит, перед нами поставлены большие, я бы сказал, грандиозные задачи! Вы славно трудились в этом году, мы еще будем подводить итоги, но надо усилить эффективность труда. Сразу предупреждаю: разгильдяйства и безответственности не потерплю, со всеми нарушениями трудовой дисциплины бороться буду беспощадно. У вас много хороших, я бы сказал, отличных работников, но есть и отдельные недостатки, с которыми, думаю, будем бороться сообща. А сейчас к делу, товарищи. Петр Тарасович, давайте, что у вас…
После планерки Колюня мрачно предрек:
— Хватим горя, мужики! Семенов хоть не мешал никому. А этот комсомолец будет лезть во все дырки. Конечно, руководить — большого ума не надо. Но, ежели руководитель не хрена не петрит, за что он первым делом берется? За дисциплину! Вот и этот начнет строжить, а Пидарасыч — вкладывать всех подряд. Пока не надоест.
— Кому?
— А им обоим!
— Ну что ты, Николай, никогда ни про кого слова доброго не скажешь? — удивился Егор. — Ты же человека первый раз видишь, а уже хаешь. Вроде, ничего мужик, а там увидим. А насчет дисциплины он прав. Ты посмотри: бабы у нас целыми днями — по магазинам на дежурке шастают, то вяжут, то сплетни сплетают, то чаи гоняют, и все в рабочее время… Да и мы сами…
— А я тебе говорю: раз комсомолец, значит, ни хрена не знает, не умеет и уметь не хочет! Ты что, в самом деле такой тупой или прикидываешься? Где ты видел, чтоб из горкомов да райкомов по своей воле уходили? Не-ет, они из инструкторов — да в секретари, из района — да в область, из комсомола — да в партию, и так — до самой пенсии. А если уходят, то в исполкомы, с повышениями. Понял? И уж если этот к нам попал, значит, рыльце в пуху у него! Вот и будет на наших костях себе индульгенцию зарабатывать!
— Да еще с гражданской войны партия своих отправляла и на фронт, и на заводы, и в деревни… — пытался спорить Егор.
Колюня постучал пальцем в висок, грустно выматерился и стал собирать в чемоданчик инструмент.
8.
Дома Лариса протянула Егору конверт.
— От кого это, Гош? От любовницы?
— Наверное, — беспечно ответил Егор. Он сразу узнал почерк директора мышкинского детдома. За эти полгода он получил от него два письма, но ни на одно не ответил. Не из опасения — просто директор и в письмах и на конверте ставил подпись-виньетку, так что ни имени-отчества его, ни фамилии не знал Егор. А настырный старик прислал третье письмо. Нехорошее предчувствие зашевелилось не в сердце — где-то под ложечкой. И не обмануло. В новогодней открытке, после поздравлений, было:
«Ты что-то упорно молчишь, и я по-стариковски придумываю всякие страхи: уж не стряслось ли чего? Надеюсь, что нет. В зимние каникулы у меня будет немного времени, и я надеюсь повидаться с тобой…»
— Можно прочитать? — не отставала Лариса, и Егору ничего не оставалось, как отдать ей открытку.
— Так от кого это?
Ей бы следователем быть!
— От директора детдома моего.
— Гоша, а правда, что ж ты такой поросенок, не можешь ответить старичку. Сколько ему?
— Да много уже.
— Вот и ответил бы. Это ж нетрудно, а ему приятно, видишь, волнуется. Или ты обиделся на него за что-то?
— Да нет, я… Знаешь, Лариса… я когда в отпуске был… — чтение книг и просмотры фильмов обогатили егорову, и так небедную, фантазию, и сейчас он вдохновенно стал импровизировать:
— Я, когда в отпуске был, ну, там, в Крыму, подрался один раз. Ну, пришлось — хулиганы какие-то пристали вечером. Дай, мол, закурить. И понеслось! Ну, и стукнули меня по затылку чем-то, я даже отключился. Во, пощупай, — положил он ее пальцы на старый шрам, — чувствуешь? Ну вот. А после этого я маленько забывать стал. Помнишь, ты еще не поверила как это я не помню, как мы на картошку прошлой осенью ездили? А особенно имена, знаешь. Прямо беда! Вот, бывает, по улице иду, вижу, морда, лицо то есть, знакомое, ну, где-то я его знаю, а как зовут — не могу вспомнить. И вот директора этого. Уж сколько времени бьюсь, а не вспомню никак! Аж самому неудобно, а вот..
Выкручиваясь, думая успокоить Ларису, Егор перепугал ее до смерти. Она прижала к себе его грешную голову и, тревожно оглаживая шрам, запричитала:
— Ой, что же ты мне раньше-то!.. Это ведь опасно, понимаешь? Надо к врачу, обязательно! А я-то думаю, что ты по ночам все стонешь? А ты молчишь, скрываешь, разве можно так? А голова болит?
— Да нет, что ты, не болит ничего, вообще все в порядке, вот имена только. А тебе не говорил — зачем волновать-то, если все в порядке?
— А я-то думаю все: ну что тебя мучает? Ты такой нервный стал в последнее время, раздражительный. Бедный ты мой! У Веры Андреевны врач-психиатр есть знакомый, очень хороший, давай сходим к нему, Гошенька. Ну, нельзя же так о себе не заботиться!
— Да говорю же, ничего страшного! Пройдет это, само пройдет! Ну, ладно, после Нового года сходим. Давай-ка, брат, лучше подумаем, как Новый год встречать будем?
— Как это ты хорошо сказал: «брат»! Ты знаешь, я маленькая очень хотела быть пацаном. Да и сейчас иногда…
— Лучше не надо…
И они мирно и с удовольствием начали перебирать варианты планов на новогодний вечер и ночь. Можно поехать к маме. Нет, к маме не поедем. Дальняя, но многочисленная родня (в поселке всего-то две фамилии — Большешаповы и Косых) обязательно соберется порассмотреть-порасспросить городскую жительницу Лорку, а ее мужика будет испытывать на прочность крепчайшей самогонкой и коварной бражкой. Звала в гости Вера Андреевна. Нет, к ней не пойдем — сама она — душа-человек, но муж у нее зануда. А лучше уехать на турбазу и Новый год встретить в лесу, чтобы ровно в полночь настоящий снег с настоящей елки обсыпал на счастье! Или сесть в поезд, в какой угодно, и встретить Новый год в пути. Или просто остаться дома, вдвоем.
…
Покажите мне человека, который не любит Новый год, и я пожалею его. Если найдется в мире такой, — это очень и очень глубоко несчастный человек. Радостный праздник Новый год с самого детства становится самым-самым праздником. И каждый раз под Новый год мы становимся немножко детьми и ждем от новогодней ночи таинственных и счастливых подарков. Да, с годами во вкусе этого праздника все явственнее ощущается горчинка — горчинку мандариновой кожуры сменяет горчинка подведения итогов. Но сладковатый, кружащий голову дым свечей и зыбких неясных надежд на будущее счастье, но бессонная ночь, в которую все и всё выглядит чуточку нереальным, сказочным, но доброта, разлитая в морозном воздухе и отражающаяся на лицах, холодное, искрящееся шампанское, музыка, запах хвои… Словом, я не хочу вас жалеть: я верю, что вы больше всех праздников на свете любите Новый год. Вот и я тоже.
…
Их военный совет прервал нерешительный звонок в дверь. Это пришел Шурик. За два месяца, что он пробыл на самострое, Шурик здорово изменился. Чуть отвисшая кожа на щеках, всегда желтовато-серая, теперь туго обтягивала скулы и на зимних ветрах и солнце приобрела красноватый индейский оттенок. От этого светло-серые глаза пронзительно светились на улыбающемся лице, и Шурик выглядел почти вдвое моложе.
— Проходи, Александр Сергеич. Раздевайся, рассказывай.
— Не, спасибо, я на минутку, дома еще не был. А рассказывать — что рассказывать? Сегодня вот жеребьевку провели, после праздников ордера получать будем. Моя — на одиннадцатом этаже, зато два лифта — и грузовой, и пассажирский есть. А квартирки, я вам скажу! Хоть в футбол играй в комнатах. Так я чо забежал-то? Ордера получим да заселяться будем, так что на старый Новый год прошу на новоселье. Я к вам заранее, чтоб чего на старый Новый год не наметили. Прошу тебя, Николаич, и вас, Лариса Ивановна, обязательно.
— Спасибо, Сергеич, обязательно будем. Какой номер квартиры-то?
А Лара, умница, уже тащила на подносике бутылку водки, стопки и бутерброды с колбасой и плавленым сыром — на скорую руку.
— Дядя Саня, надо это дело отметить! Официально — потом, мы придем обязательно, а жеребьевку — давайте сейчас. Да ты б разделся, дядя Саня!
— Не, спасибо, дома еще не был. Побегу, своих обрадую. Ну, будьте здоровы! И — с наступающим! Побежал.
Закрыв за дядей Саней дверь, Лариса с удивлением вглядывалась в лицо мужа. Оно словно отражало свет, которым сиял Шурик. И Лариса окончательно забыла (на время) свои страхи за его голову, любуясь этим просветленным лицом.
9.
И пришел Новый год. Колдовской. С мягкой погодой, теплой ночью, крупными хлопьями снега, медленно-медленно, плавно кружащими сверху вниз, совсем отвесно. Они и правда на эту ночь уехали из города. Часов в десять вечера они встали на лыжи, Егор поправил на плечах лямки рюкзачка, подтянул крепления себе и Ларисе, и они не спеша пошли через поле к чернеющему мыску леса.
Егор шел впереди, прокладывая лыжню. Лыжи были не слишком широкими и довольно тяжелыми, но он радостно шел вперед, ощущая сопротивление снега, прикосновение снежинок к разгоряченному лицу, стараясь не сбивать дыхание. Сколько лет он уже не вставал на лыжи? Лет шестнадцать. Да, шестнадцать лет не знал, казалось, напрочь забыл, как это можно — идти просто так, ради собственного удовольствия, пытаясь сквозь кисею снега увидеть хоть одну звездочку в чернильно-черном небе. Шестнадцать лет в городах, в СИЗО и на зоне некогда было смотреть в небо ему, а если и видел звезды, так только на офицерских погонах. Шестнадцать лет лишал себя вот такой маленькой человеческой радости: просто идти на лыжах, изредка оглядываясь на женщину, что идет за тобой, на твою женщину, видеть ее полуоткрытый рот с облачком пара и радостной улыбкой, прокладывать лыжню, вести за собой, знать, что даришь ей радость. Выбросить из жизни целых шестнадцать лет — всю юность и молодость!
Но сейчас не было ему горько от этого, не думалось пристально. А думалось легко и приятно о нескольких ближайших часах, о том, что непременно надо отыскать полянку, полянку с елкой, что надо заранее собрать сушняка для костра, а костер запалить уже в новом году — уж больно жалко отпугивать огнем эту ночную красоту.
И они нашли полянку, а на краю ее — небольшую, но очень пушистую елку с подушками снега на раскидистых лапах. И ровно в полночь, встав под этими лапами, они трясли их, и снег сыпался на них, сыпался в пластмассовые стаканчики с шампанским и за ворот, а с неба снег уже не шел, и облака вдруг прорежились, и выглянула, как по заказу, луна, сначала мутная, а потом все ярче и ярче, и они поцеловались холодными и сладкими от шампанского губами, молча обещая быть счастливыми и делить свое счастье друг с другом.
Говорят, как встретишь Новый год, таким он весь и будет. Новогодняя ночь была непередаваемо-хороша.
Но кончились праздные дни, наступили суровые будни. И для Егора оказались они огромным снежным комом, из тех, что скатывают детки во дворах микрорайонов, обнажая при этом нищету газонов, спортивных и бельевых площадок. Вот катают-катают они этот шар, а после жахнут, к вящему неудовольствию и перепугу какого-нибудь мимопроходящего взрослого гражданина, да прямо об него тот ком. И что им до испуга и неудовольствия этого гражданина? И глупо обижаться или злиться на них — это их мир, это совершенно другой мир, и вы или вписываетесь в него, или выпадаете — мокрым, униженным, злым.
Но в этом, в егоровом случае, снежный ком рос из совсем других компонентов, катался совсем иными людьми. Да, это был иной мир, в который, оказалось, ну никак не вписывался Егор. А кроме того, в большом, серо-белом снежном шаре закатано было, ох, как много булыжин и осколков кирпичей. А Егор оказался крайним. И, рассыпаясь, тот снежный ком, почему-то, потчевал его как раз этими булыгами и кирпичами. Больно! И обидно!
Итак, кончились праздные дни. Ах, какими светлыми, незамутненными были они! Были. И все ж таки, наступили суровые будни. И тот самый снежный ком вдруг выкатился и разбился об Егора. Мокро. Больно. Обидно.
Было отчетно-выборное собрание. На собрании этом долго и нудно читал доклад Петр Тарасыч. Так уж повелось в последние дни-недели, что, как только дело касалось производственных или профсоюзных вопросов, всегда на месте оказывался Пидарасыч, всегда новоиспеченный начальник оставался в стороне, в тени, ни при чем. Так было и сегодня. Начальник присутствовал. Но и только.
Для Егора все эти собрания уже стали довольно привычными и неинтересными, от сонной скуки товарищей до мальчишески-хулиганских выкриков из-за спин: «Завязывай! Домой пора!» — это в рабочее-то время. Но этого собрания он ждал. Ждал с нетерпением. Был у него на то свой резон. На отчетно-выборном собрании отчитывался профсоюз и насчет жилищного вопроса. А в жилищном вопросе оказалась огромная дыра. Для кого-то, может быть, и вовсе незаметная, но для Егора…
На третий день после Нового года явился Шурик. Впечатление было такое, будто он в эти дни тяжело болел или беспробудно пил. Красные, опухшие, мутные глаза, плохо пробритые щеки снова стали землистого цвета, отвисшая нижняя губа дрожит.
— Шурик, Сергеич, да что с тобой? — в голос забеспокоились и Колюня, и Егор.
Тот обессиленно махнул рукой и сел на лавку, уронив на пол ушанку и даже не заметив этого. Мужики замолкли, тревожно глядя на Терпугова. С трудом через некоторое время он выдохнул:
— Накрылась квартира! Ну, блин!..
Кое-как выяснили у него, что вчера он пошел получать ордер. Но ордер ему не дали, так как два десятка квартир из нового дома забрали горком партии и горисполком. А Шурик как стоял восьмым на очереди, так и остался стоять.
— А в наш профком ты ходил? — вопрошал Колюня.
— Там Пидарасыч…
— А! Ну да! А к начальнику к новому?
— Да нет его! Да что толку-то, если всем ордера уже выдали, если заселяются уже!
Шурик сморщился и замотал головой, как от нестерпимой зубной боли. На него нельзя было спокойно смотреть — вот-вот заплачет мужик.
Егор подавленно молчал. Все его представления о правильной нормальной жизни рушились. Значит, вот как. Если у зека зек пайку украдет — страшней преступленья не бывает. А тут у мужика за здорово живешь отняли квартиру, в очереди на которую стоял он годы и годы, за которую ишачил эти два месяца от темна до темна и еще после. Отняли, и крайних нет? Да не может же быть такого, не должно же быть! Что ж это: в газетах, по телевизору одно, а на поверку, выходит, совсем другое? Нет, не может быть!
— Не может?! — взвился Шурик. — А начальник новый двухкомнатную в этом доме получил — может?! На двоих! А меня, значит, ногами вперед так все из этой и вынесут! Козлы они все, козлы!
— Ну-ну, успокойся! — прикрикнул Колюня. — Значит, так, Шурик, пиши заяву на два отгула и дергай домой. Отдохнуть тебе надо.
— Какие отгулы, нету у меня никаких отгулов, — захлопал глазами Шурик.
— Говорю: есть, значит, есть! Я, хоть и вшивый, но бугор, мне лучше знать. Пиши, пиши… Вот так. И дергай, говорю, отсюда, поспи. Двоешники-то в школе?
— Какая школа — каникулы же.
— А, ну да, забыл совсем. Ну, отправь их в кино или куда еще, водки выпей, что ли, и поспи, главное. После мозговать будем.
Ушел Шурик.
— Ну, что делать будем, Француз? Дело, явно дохлое — хрен у них что назад вырвешь — не та компания. Эх, раньше бы чуток! Ну, не мог он в Новый год туда вселиться! Новый замок бы врезал, а зимой ни одна милиция не имеет права на улицу выкинуть. До весны бы продержался, а за это время, глядишь, что и вышло бы… Ты куда?
— К Миропольскому, — с неожиданной решимостью отправился Егор. Сейчас он не помнил своих твердых намерений, зароков своих затаиться, не высовываться. Сейчас ему было не до того, не до себя.
Но Миропольского на месте не было. Секретарша сказала, что он на больничном. И решимость егорова малость поутихла.
Но совсем не угасла. И сейчас, на этом собрании, он ждал вопроса о жилье. И дождался. И, когда Иванов бодро и радостно оповестил о том, сколько членов коллектива, и кто именно, улучшили в минувшем году свои жилищные условия, Егор попросил слова.
— А как объяснить, Петр Тарасыч, что вот Терпугов и на очереди стоял, и на самострое работал, а при распределении оказалось, что, как был восьмым, так и остался?
— Прежде чем поднимать вопрос, Мышкин, — голос Иванова назидательно забронзовел, — надо хорошенько выяснить факты. Терпугов теперь не восьмой на очередности, а первый. А тот факт, что несколько наших очередников в этот раз не получили квартиры, на которые мы рассчитывали, объясняется тем, и вы все, товарищи, это знаете, что горком и горисполком в этом доме взяли не десять, как планировалось раньше, а двадцать квартир. В том числе и те, которые должны были получить мы. Но, — повысил он голос, перекрывая возмущенный ропот зала, — это, товарищи, взаимообразно: в ближайшее время в одном из сдаточных домов нам выделят эти квартиры! Надо немножко потерпеть, а не раздувать нездоровый ажиотаж! Вот почему ты, Мышкин, в адвокаты к Терпугову записался?
— А потому, что мне с ним работать! И мне не все равно, — о работе он будет думать, или — где и как жить ему! — тоже нажал на голос Егор. — Ладно. Понятно. А вот есть у меня вопрос к Миропольскому. Как же так, Аркадий Николаевич, сталось, что в этом доме вы квартиру двухкомнатную получили? Ведь вы у нас недели две всего?
Миропольский поднялся, внимательно и спокойно поглядел на Егора и доброжелательно ответил:
— Эту квартиру я получил не от вашего… нашего ЖЭКа, а по другому ведомству.
— То есть, от горкома? — встрял Колюня. — Одну из тех, что у нас отобрали?
— В эти подробности я не вдавался. В горкоме я стоял на очереди на получение квартиры, и я получил ее, а до этого мы с женой месяц жили в гостинице. Еще вопросы есть? — неожиданно жестко закончил он.
Гул в зале не смолкал, но открытого возмущения никто не высказывал. Что толку-то? Поезд ушел. Назад не воротишь, а лезть в эти дела — только неприятности себе наживать. Обернувшись из переднего ряда, предостерегающе смотрела на Егора Лариса. Глаза ее кричали: «Да сядь ты! Ну, зачем связываться? Ничего ведь не добьешься, кроме скандала!..»
Но Егор не сел.
— Вопросов нет. А есть предложение: почему бы вам, Аркадий Николаевич, не поменяться с Терпуговым? Им, вчетвером, в двухкомнатной все попросторнее будет, а вам с женой и в его однокомнатной не тесно. Тем более, что в скором времени горком долг вернет.
— Вы соображаете, что говорите, э-э… Мышкин?
— Вот я и соображаю: настоящий коммунист так бы и поступил!
Смуглое лицо Миропольского пошло багровыми пятнами.
— Эту квартиру мне дал горком партии, и только ему решать этот вопрос! Давайте не уподобляться базарным бабам и затягивать собрание. Если хотите, Мышкин, мы побеседуем с вами на эту тему завтра у меня в кабинете.
— Нет, не хочу, — вдруг страшно устав, Егор опустился на жесткое сиденье.
— Все ясно! — заорал вдруг с опозданием Колюня.- Короче, отдай жену дяде, а сам иди к бляди!
— Прекрати, Сазонов! Как ты ведешь!.. При женщинах! — завопил Иванов.
— А пошли вы все!.. — и, уточнив, куда именно, Колюня ломанулся к выходу.
Самое странное было после. Когда скандал кое-как замяли, при выборах Миропольский неожиданно предложил Егора в члены жилищно-бытовой комиссии, мотивируя свое предложение тем, что Мышкин горячо отстаивает интересы товарищей и проявит себя в организованной общественной работе, а не в партизанских налетах на действительную или мнимую несправедливость. И, как ни отнекивался растерявшийся Егор, его выбрали председателем этой комиссии.
Колюня, который, оказывается, никуда не ушел, а курил под дверью красного уголка и слушал, недобро прищурился, когда Егор выходил:
— А ты, парень, далеко пойдешь!.. — и, круто повернувшись, тут же ушел.
— Зря ты это, Николаич, зачем ты, все равно ведь ничего… А они тебя теперь есть будут, — зашептал сбоку Шурик. — Зря…
— Подавятся! — взвился Егор.
А уже на выходе из тамбура придержал его за рукав главный инженер:
— Давай-ка потолкуем, Николаич…
— А не хочу, Пидарасыч!
Рот Иванова захлопнулся гораздо позже, чем за Егором — входная дверь.
А еще после было самое противное. Была первая настоящая ссора с Ларисой из-за этого собрания. А Колюне не простили его нецензурное выступление на собрании, сразу вдруг вспомнили его прошлые грехи, на которые закрывали глаза столько времени. И… предложили Егору стать бригадиром вместо Колюни. А когда взбешенный Егор отказался наотрез, бригадиром поставили Шурика. И Шурик стал бригадиром! Егор смотреть на него не мог. Колюня не мог смотреть ни на него, ни на Егора. Егор, не до конца понимая внезапную озлобленность Колюни, чувствуя его неправоту, унижаться до объяснений не хотел, не хотел и смотреть на Колюню. Шурик не смел смотреть на обоих. Но бригадиром он стал.
10.
У школьников уже заканчивались зимние каникулы, и все эти дни каникул, с великой тревогой, со страхом затаенным, ожидал Егор появления знакомо-незнакомого директора детдома — грозился ведь приехать! Прокручивал в мыслях варианты встречи и разговора с ним. Ох, как не хотелось ни встречи, ни разговора! Опять выкручиваться, опять врать, то холодея, то жаром заливаясь. Ну, совсем этого не хотелось Егору. И без того хватает нервотрепок и неприятностей.
Но директор не приехал. А за пару дней до конца этих школьных каникул пришла телеграмма. Сначала Егор растерянно подумал даже, что на почте что-то перепутали. Только разглядев, откуда отправлена телеграмма, понял все сразу. Телеграмма была из Шаманска, откуда приходили письма директора:
«Павел Яковлевич скончался седьмого инфаркта похороны десятого Клавдия Ивановна.»
«Вот, значит, как его звали, — Павел Яковлевич! И не от седьмого инфаркта, а седьмого числа он умер. А про эту Клавдию Ивановну было в одном из писем его: соседка это, он же тоже совсем один был…»
И тут, с беспощадной ясностью, Егор поймал себя на том, что, дрожа за свою шкуру, за благополучие свое, желал чего-то подобного. Нет, не смерти, боже упаси, но внезапной болезни, какой-нибудь случайности, которая помешала бы Павлу Яковлевичу исполнить его намерение приехать сюда, к нему. И, когда в первые мгновения уяснил себе, что тот не приедет, не приедет потому, что мертв, он, Егор, испытал облегчение и подленькую, неконтролируемую радость.
«Вот, значит, как! Вот, значит, еще какой я: пусть умрут хоть все — директор, Мышкин, — лишь бы не тревожили меня, лишь бы не колебали! Всякий я был, но чтоб до такого!.. Ох, и гнусь, ох, и сука я, господи!..»
Егора трясло, а Лариса, считая, что он мучается раскаянием оттого, что не отвечал на письма Павла Яковлевича и тем острее переживает его неожиданную смерть, успокаивала, утешала его, словно ребенка, который ударился и горько плачет от боли и недоумения. И, когда Егор взял себя в руки и немного успокоился, сказала, что ему обязательно надо лететь на похороны, пусть он летит прямо сейчас, а она завтра утром отнесет на работу его заявление и все утрясет.
И Егор полетел в Шаманск. Но запуржило, завьюжило, и старенький трудяга Ан-2 принес Егора в Шаманск только утром одиннадцатого, хотя лету здесь было всего два с половиной часа. Егор попросил таксиста отвезти его на кладбище, нашел свежую могилу Павла Яковлевича, постоял с непокрытой головой…
Старик с фотографии на металлической пирамидке вовсе не выглядел стариком, хотя прожил, по датам, шестьдесят девять лет. Может, фотография была давнишней. Но почему такие знакомые глаза? Немного кружилась голова, и Егор уже почти верил, что это его учитель, и что вся вина его, Мышкина, в том, что он не ответил на письма, не сказал старику теплых и откровенных слов при жизни. Эти глаза… Да он же и в самом деле видел их. Эти глаза были у того старика во сне!.. И теперешний озноб, потряхивающий Егора — не от легкого январского морозца.
Натянув шапку, он медленно побрел к выходу с кладбища. Надо было возвращаться домой.
В детдом он так и не зашел.
После поездки в Шаманск Лариса старалась не беспокоить Егора, не приставала с расспросами, говорили они теперь только на нейтральные темы: что приготовить на ужин, не купить ли то или это. Ни о работе, ни о Шурике с его проблемами, ни о покойном директоре… Егор в эти дни жил, как в вату упакованный, в себе, окружающее не касалось его, было еле слышимым. Не тревожила его Лариса, но все чаще и чаще перехватывал он ее изучающий, жалеющий, тревожный взгляд, который она тут же отводила. До поры до времени такое положение устраивало Егора — он был крепко взвинчен и боялся сорваться. Сорваться и выложить Ларисе все, как есть, выложить со злорадством: что, правды хотела? На, вот она, правда! Но нельзя было этого делать. Она-то ни в чем не виновата, она и так изводилась из-за его выступлений перед начальством. А Лариса боялась, что неожиданная метаморфоза всегда тихого, вежливого, доброжелательного Мышкина — тоже следствие той летней травмы. И она твердо решила спасать любимого.
И, когда прошло время, когда Лариса расхлебалась со своей зимней сессией, когда февраль уже посылал на разведку первые свои ветра, она мягко, но настойчиво уговорила Егора пойти все же к очень хорошему врачу-психиатру.
И расплакалась, когда через десять минут Егор вылетел из кабинета врача, сжимая кулаки и вполголоса матерясь, а немного успокоившись, зло сказал ей:
— На кой мне это светило? Или ты, в самом деле считаешь, что меня в дурку надо сдать? Сидит он, сука ласковая, вопросики задает: а много ли ваш отец пил? А венерическими болезнями родные не болели? А я только и знаю про папаню, что был он — кто-то ж меня сделал! А про родню и того не знаю — была ли, нет ли! Нет, голубушка, я еще не свихнулся. А вот с такими побеседуешь — точно чокнуться можно. Он же заранее считает, что я — того, я ж вижу! Картинки какие-то дурацкие подсовывать начал… Ну, успокойся ты, бога для! Ну что ты плачешь? Ну ладно, ладно, ну, извини, наговорил я тебе тут, свинья я. Все будет путем, слышишь? Все будет путем без всех этих лепил!
— Без кого? — вытирая тушь со щек, вдруг с любопытством спросила Лариса.
— Ну, без врачей. Мы их… в детдоме лепилами звали. Давай лучше, чем по врачам шастать, в киношку сходим, а? По мороженому вдарим!
— Ты как ребенок, — сквозь высыхающие слезы улыбнулась Лариса, — киношка, мороженое! Что я Вере Андреевне скажу? Ладно, пошли в кино!
Несколько недель были спокойными, какими-то сонными. Замкнувшись в себе, делал Егор свою работу, разговаривая с коллегами-сантехниками только по крайней необходимости, да и с другими тоже. Лариса, вроде бы, успокоилась, и заботливые ее взгляды уже не досаждали Егору. А когда ему удалось узнать адрес Мышкина и от славкиного имени отправить туда посылку, камень с души не свалился, но стало значительно легче, легче стало дышать.
А в один прекрасный день (и день, действительно, был прекрасный!) Колюня остался с ним один на один и неожиданно сказал:
— Ты прости, Гоха, неправильно я… Плохо о тебе думал. Зря думал.
— А сейчас, значит, передумал? — ощетинился было Егор.
— Не, не сейчас… Все время ведь думал. Понимаешь, какая штука… Как сказать-то?.. Ну, на том собрании вот выступил ты, на Миропольского попер, дуру погнал насчет меняться… Идиотизм же! Я думаю: зачем оно тебе? Перед нами себя показать, какой ты храбрый? А когда тебя членом в местком, — во, думаю, жук! Вроде, борец за справедливость, а сам к власти рвется. вот ведь что я… А ты бугрить отказался. Ты ж и ударник комтруда, и без страха и упрека; дальше, думал, двигать будешь. Скажи, ведь дуру гнал ты, когда про партию, про честность?..
— Не, Колюня, я ведь честно так и думал тогда, веришь?
— Верю. сейчас… Да где ж ты жил все эти годы, если ничего не видел, ничего не знаешь? Взрослый ведь мужик, вон, седеть уже начинаешь. Вот чего я не пойму.
— Где жил… Где я жил! Мне вот сейчас, Никола, кажется, что и не жил я — все, как во сне, как не со мной. А сейчас — будто проснулся, а от сна никак не отойду от этого.
— Эх, парень! Ну до чего на меня ты похож. Я ведь молодой был — вроде тебя: я и в Сибирь-то приехал по зову сердца — не абы что. И как радовался первое время: другая планета, люди другие — добрее, честнее. Думал: построим город, какого в мире не было, красивый, и люди в нем будут жить только хорошие. А как очнулся, осмотрелся: все врут, ловчат, лишь бы для себя, остальное — до лампочки. А слова-то правильные мы все говорить умеем. Научились. Вот и ты… Да знаю, знаю! Я, когда увидел все это, потерял все — на хрена жить, чего ради? Пить вот стал. Сейчас-то уже по привычке, а спервоначала — думаешь-думаешь… Тошно! А как нажрешься, забудешься, — вроде, можно жить, А на трезвяк такое терпеть не мог. Теперь-то притерпелся.. Так уж, иногда, взбрыкну — и снова скис. Были б еще дети, ради них бы жил, а так — пропиваю жизни остаток. Ты чо детей-то не заведешь?
И Егору нестерпимо захотелось рассказать Колюне все о себе, излить душу. Рассказать, как попал в чужую жизнь одного человека, как оказалось, что и жизнь вокруг — чужая, не такая совсем, какую он придумал себе. А про детей думал Егор со страхом. На дне души таилось это желание: ребенка заиметь, почему-то непременно дочку. Но, едва представлял себе Егор, как держит он на руках что-то лепечущее дите, как эта сентиментальная картинка тут же сменялась другой: он бежит в непроглядную черноту, а Лариса с дитем на руках молча смотрит вслед. И тут же: во дворе стоит его дочка в голубом платьице, а вокруг скачут, кривляются ребятишки и хором кричат ей: «А твой папка — вор! Вор! Вор!» И картинки эти были настолько яркими и болезненными, что Егор страшился услышать от Ларисы известие о беременности. Но пока бог миловал.
Ничего не рассказал он Колюне, а на вопрос его ответил:
— Да вот… не получается у нас…
— А вы бы старались лучше, не ленились! — как всегда, мгновенно переходя от задушевности к ерничеству, посоветовал Колюня.
И они перешли на легкий треп, подшучивая друг над другом, словно и не было этих тяжелых — для обоих, оказывается, дней и недель враждебного молчания. И оба радовались тому, что оно рухнуло, что человек не вычеркнут из твоей жизни, что можно смотреть друг другу в глаза без злобы и ожидания предательства.
11.
Весна начиналась зябкой сыростью, особенно чувствительной после морозных, но сухих и тихих долгих зимних дней. Люди ежились, поругивали погоды, но все же были радостно возбуждены удивительными переменами, которые повторяются каждый год, и к которым, наверное, привыкаешь только в глубокой старости. Весны еще не было, но в воздухе уже пахло весной.
Мурлыча себе под нос: «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет весной», Егор менял смеситель на кухне. Работа была пустяшной, на пару минут, но Егор не торопился — заявок на сегодня больше не было, а торчать в бытовке — в табачном дыму под стук костяшек домино — не хотелось.
Закончив и привычно отмахнувшись от хозяйской трешки, он вышел на улицу и зажмурился. Солнце было огромным и, отражаясь от снежного наста, лучи его слепили глаза. Хорошо!
Постояв, подышав весенним воздухом, Егор полез в карман и, вытащив мятую пачку, заглянул в нее. В уголке тоскливо скукожилась последняя сигарета. Что-то в последнее время курить он много стал. С неохотой зашел в магазин, после полуденного уличного света показавшийся мрачным и темным. В мясной отдел стояла длинная извивающаяся очередь — за колбасой. В единственную работающую кассу — очередь чуть поменьше. Мелочи, чтобы выбить чек без сдачи, не оказалось, Егор терпеть не мог стояния в очередях, но пришлось встать. Почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и повернул голову. У колонны сидела темно-серая с рыжими подпалинами овчарка и смотрела, не мигая, на него. Егор внутренне поежился — не любил он собак. Особенно овчарок. Возле пса крутился ребенок лет трех, наверное, в комбинезоне с поднятым капюшоном — не понять: пацан ли, девчонка ли. Дите всячески старалось привлечь к себе внимание собаки, пыхтело, приседало, хватало ее за уши, пыталось потянуть за хвост. Собака не поднималась с места, и, казалось, вовсе не замечала нахального человеческого щенка. Егор отвернулся. Протянув молоденькой и очень симпатичной кассирше пятерку, выбил две пачки «Ту», не глядя, взял сдачу. И, уже отойдя от кассы, разглядел деньги: в руке было двадцать четыре рубля.
— Девушка, вы мне неправильно дали сдачу, — вернулся он к кассе.
— Все правильно я вам сдала! Надо было сразу смотреть! Только работать мешают! — неприятно-резким вдруг голосом заблажила кассирша.
— Вы ошиблись. Вот. Вы мне сдали с пяти рублей, — протянул деньги Егор.
— Ой… Извините, — голос упал до шепота, а белоснежный халатик и такая же накрахмаленная шапочка зарозовели от краски, что залила лицо и шею девушки.
Не слушая мнений, высказываемых в очереди в его и кассиршин адрес, Егор отдал лишние деньги и пошел в табачный отдел. Радужное настроение покатилось вниз. Визг дуэтом — собаки и ребенка — заставил его отпрыгнуть в сторону и резко обернуться. Ощетинившаяся овчарка, рыча, стояла на всех четырех перед малышом, а тот уже ревел взахлеб. Из очереди выскочила мать ребенка, схватила малыша на руки, завопила:
— Где хозяин?! Безобразие! Без намордника! Она моего ребенка укусила!
Очередь тоже бурно завозмущалась, но, когда разъяренной мамаше очевидцы объяснили, что собака невиновна — это ребенок укусил собаку за нос, волна хохота прошла по магазину.
Душевное равновесие Егора было восстановлено, и, улыбаясь, он вышел под прожектор солнца.
Это состояние длилось весь день, и вечером Егор с удовольствием возвращался домой. Давно уже не было ему так легко и спокойно.
А дома его ждал сюрприз. Лариса была не одна. В кресле сидел, листая журналы, молодой человек с выдающимся носом, который седлали очки в пол-лица. Он встал и шагнул навстречу хозяину.
— Познакомься, Гоша. Это мой однокурсник, Виталий.
Мужчины пожали друг другу руки и, пока Лариса хлопотала на кухне о чае (от ужина гость вежливо, но решительно отказался), дипломатично побеседовали о том, о сем.
Как-то повелось, что в замужестве Лариса отстранилась от прежних приятелей и приятельниц, и редко кто навещал ее. Мышкина же и вовсе, как оказалось, навещать было некому. Ни ее, ни его это обстоятельство, вроде бы, не тяготило, и сейчас Егор гадал, что привело в дом этого потешного парня.
За чаем разговор почему-то зашел о религии, о мистике, о расположении планет. Ларисе нравились такие темы, она где-то доставала перепечатки восточных гороскопов, прикидывала их предсказания на себя и мужа, искренне радуясь и огорчаясь.
Когда Егор сказал, что бога, конечно, нет, но что-то такое все же должно быть, Виталик похмыкал многозначительно и повернулся к Ларисе:
— Ну что же, начнем, пожалуй?
Нелепые и недобрые подозрения замелькали у Егора, и Лариса, видя напрягшийся взгляд мужа, заторопилась с объяснениями:
— Понимаешь, Виталик — экстрасенс. Он может снимать, лечить некоторые болезни, определять биополе человека, а общем, я попросила его посмотреть тебя…
Остаток зимы и начало весны Лариса нет-нет да принималась пользовать Егора разными травками: то заваривала богородскую траву, то шалфей, то еще что-то. Егор, для обоюдного спокойствия, не перечил, но настои аккуратно выливал в раковину — не нравились ему эти напитки.
«А какой день был хороший!» — вздохнул он сейчас про себя, но, глядя в умоляющие ларисины глаза, молча и согласно кивнул. Хорошее настроение не покидало его.
Виталик одухотворился.
— Георгий, сядьте, пожалуйста, сюда, в кресло. Нет, откиньтесь, расслабьтесь. Руки свободно положите на колени, не сжимайте пальцы. Вот так. Если хотите, можете закрыть глаза.
Руки Виталика плавно запорхали над егоровой головой, оглаживая воздух то у висков, то у затылка, то над теменем. Экстрасенс приборматывал:
— Так, та-ак… хорошо… хорошо… Чувствуете что-нибудь?
— Ага. Расслабуху, — лениво ответил Егор.
— Та-ак, — почти пропел удовлетворенно экстрасенс.
Продолжая пассы, он вкрадчиво спросил:
— Голова не болела в последнее время?
— Никогда нипочем, — придуривался Егор.
— Хорошо. А сейчас что чувствуете? — пальцы экстрасенса замерли над теменем Егора.
— Вроде, как что-то вытягивается из меня даже приподнимает чуток, — подыграл Егор.
— Чу-удненько! — Виталик аж засветился. — Ну, еще чуть-чуть…
Окончив свои пассы и потрясывая кистями, пальцами одной руки как бы снимая с пальцев другой нечто и сбрасывая это нечто на пол, Виталик негромко и убежденно говорил:
— У вас здесь, в темени, что-то наподобие третьего глаза. Ничего страшного, ничего. Сами вы не являетесь носителем черной энергии, нет, но через вас, через этот третий глаз они могут воздействовать на людей, особенно на близких…
— Они — это кто? — полюбопытствовал Егор.
— Ничего страшного, — проигнорировал вопрос экстрасенс, — несколько сеансов, и мы сможем закрыть ваш третий глаз. Все хорошо. Все будет хорошо. Когда можно прийти к вам в следующий раз?
— В любое время. Дня и ночи. Буду. Очень рад, — вежливо и доброжелательно отвечал Егор, провожая целителя до двери. — До свидания.
— Тогда до субботы. До свидания.
В комнате Лариса чуть виновато, как-то крадучись, подошла к нему, обняла:
— Не злись, ладно?
— Ну что ты, совсем я не злюсь.
— Правда? — обрадовалась она.
Правда. Егор не злился. Он дивился. Вот, оказывается, еще как можно портить человеку настроение: желая ему добра, действуя из самых лучших побуждений. Да, веселенькие дела.
— А что, этот Виталик — он за деньги свои эти, сеансы, проводит?
— Ну, что ты! Им нельзя за это деньги брать, он говорит, что тогда Сила теряется, аура измениться может или ослабеть. Правда, некоторые берут… А Виталик — нет! Знаешь, он сказал, что у меня тоже есть способности экстрасенса, только их надо развивать, конечно. Он скоро будет набирать группу для обучения, вернее, уже набирает, недели через две начнет вести занятия. Вот они-то платные.
— И сколько ему платить надо?
— Триста двадцать
— Не хило! А почему именно триста двадцать?
— Не знаю, Гоша…
— Хочешь пойти выучиться?
— Да-а.
— Ну что ж, сходи, поучись. Может, впрямь, чему научит.
«Да хоть стойку на голове, если тебе это нравится!» Несмотря на обстоятельство, перевернувшее его жизнь, он не верил в эти штучки. Ни в чох, ни в сон.
А настроение было окончательно испорчено.
12.
Экстрасенс водил руками еще четыре раза. На это ушло две недели. Егор стоически перенес и это — хватило выдержки. Зато, когда после четвертого сеанса, Виталик торжествующе объявил о том, что «глаз» закрылся, и теперь совсем все хорошо, искренней радости всех троих не было границ. Егор, которого давно уже подмывало крепко вмазать вполне легально, предложил отметить это дело в «Веснушке». Лариса горячо его поддержала, и они втроем славно вечер провели. Правда, был один скользкий для Егора момент: чуть захмелевшая Лариса впала в сентиментальность и принялась вспоминать тот летний сабантуй в этом кафе, с которого все и началось, призывая мужа вспоминать подробности. Егор удачно лавировал в этом неожиданном потоке мемуаров, а когда сбился, грубо заявил: «Не помню — пьяный был!» Но эта грубость была принята радостной Ларисой за смущенную искренность. Сошло и на этот раз.
Отправив на такси засыпающего Виталика и прихватив бутылочку с собой, Егор «догнался» дома. И утром тревожно вспоминал: а что же было? Он и в самом деле не помнил окончания вечера. Но ничего страшного не было. Только Лариса утром попросила его не пытаться больше так пить — «ты же совсем не умеешь.» К ее огорчению, ночью Егор уснул, сидя за кухонным столом.
А время шло, и жизнь продолжалась и была такой же банальной, как эта фраза. И Егору все порядком поднадоело, он почему-то страшно устал за этот неполный год, словно много-много лет прожил с той летней ночи, с того рукопожатия. А тут еще весна будоражила душу неясными желаниями и тревогами. Хотелось сменить место, окружение, сделать что-то, выходящее за рамки повседневности, хотелось неизвестно чего.
И опять тревожно стала приглядываться к нему Лариса, и, не удержавшись, пытать:
— Родненький, ну скажи, что тебя мучает? Ну, что не так? Ну зачем ты сегодня с нашими бабами опять сцепился из-за этой машины? Ты какой-то не такой стал за эту зиму. Конфликтуешь вот со всеми, злой ты стал, все у тебя какие-то плохие, особенно начальство. Гоша, ты же их не переделаешь, зачем же себе и людям нервы трепать? Пусть себе живут, как хотят, тебе-то что?
Егор понуро отмалчивался. Он уже понял, что Ларисе не объяснишь, зачем и почему лезет он в эти раздоры с мелким и крупным начальством. Не в силах ничего изменить, он был бы и рад не вмешиваться, не замечать. Но не давала спокойно жить мысль, что неизвестное и таинственное Нечто, сунувшее, швырнувшее, как щенка в воду, его в эту жизнь, пославшее ему испытание, именно таких действий ждет от него. Что, если и не оправданием, то хоть частичным искуплением вины перед Мышкиным и покойным Павлом Яковлевичем будет то, что он, Егор, пытается жить по-совести, ищет справедливости и правды, не прячась в болоте покоя и уюта.
Но спрятаться хотелось все чаще и чаще. Все чаще и чаще уставал он. А Лариса все пыталась помочь ему. Понемногу сообразив, что экстрасенс не добился положительного результата, а Егор их попросту безжалостно разыграл, она решила обратиться к неумирающим средствам: заговорам, ворожбе. И, прослышав, что недалеко от ее родного поселка живет дряхлая бабка, обладающая чудодейственной силой, засобиралась за помощью к ней. Егора она в свои планы уже не посвящала. Сказала, что хочет съездить навестить мать. На что Егор вовсе не возражал. Ему хотелось побыть одному. Совсем одному.
Да, в сущности, он и был совсем один.
Бесцельно шатаясь по городу, остановился Егор однажды возле деревянной неказистой церквушки на окраине. Церковь была совсем новая, единственная в городе. Старые не устояли перед натиском воинствующего атеизма. Егор вошел в церковь, минуя черных старушек, торговавших свечками, крестиками, брошюрками.
Шла служба. Пахло приторно и непривычно. В расшитой блестящей рясе что-то нараспев гнусавил поп. Или дьякон. В этих тонкостях Егор не разбирался. Но служителя культа сразу узнал: видел его в «Веснушке». В цивильной одежде и с двумя девицами. Вот только бородки не было. «Гад буду — он! А бороду приклеил, что ли? Точно, приклеил! Ну…»
К его удивлению, в церкви молились не только дряхлые старики и старухи: тут были и совсем молоденькие девчушки, и респектабельные дамы, и парни молодые тут были, и солидные дяди, и пацаны сопливые — крестились и кланялись. Модно стало в последнее время верить в бога.
Егор потихоньку поразглядывал аляповатые новенькие иконы, обязательные лица молящихся и пошел прочь. От его потаенного желания помолиться, может, даже исповедоваться, ничего не осталось. А в памяти вертелся, повторялся куплет из уважаемого им Высоцкого: «В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо!»
Все, все не так!
Они разгружали поступившие голубенькие гэдээровские унитазы, когда Колюня, как всегда, неожиданно, сказал ему:
— Все, Гоха, ухожу я. Иначе на «горбатую» меня раскрутят. Хотел, назло им всем, продержаться, да чую — не смогу. Обложили, как волка. Сегодня заяву начальнику отнес — сразу подписал, безо всякой отработки. Завтра ухожу. Добились победы, буржуины!.. Мне-то что! А ты держись, парень. Хреново будет, если и ты сломаешься.
И он ушел. Большой, сильный. И такой слабый.
Лариса в этот день уехала к матери. А Егор снова напился, на этот раз — в одиночку. Он пил и мрачно размышлял о том, что ни хрена у него не получается в житье, что всем от него — только горе и неприятности, что его посылки Мышкину — жалкая попытка заткнуть рот собственной совести, что единственно правильным будет: пойти в милицию и рассказать о себе всю правду. Да, вот пойдет и все расскажет. И пусть Мышкина вернут на место, сюда, а его отправят туда, где он и должен быть, где ему и место. И где все просто и привычно. С этим решением он и отключился. А наутро с головой, в которую сухарями стучали мозги, поплелся на работу.
Притащилась бабуля, божий одуванчик, и со слезами на подслеповатых глазах умоляла:
— Сынки, помогите, спасу нет, котору неделю мучаюсь, по соседям бегаю по нужде. Срам-то какой! Расколол ить, ирод проклятый, унитаз, весь, как есть расколол, зятек-то мой непутевый! Калаголик нешшастный! С дочкой-то их все мир не берет, дак прибежала к мамке, а он — за ей. И расколол же унитаз, весь как есть расколол! Имя-то что: опеть помирились, про меня не поминат ни он, ни она. Эт до следующей драки. А мне-то…
— Нету у нас, бабуля, унитазов! — прервал ее Шурик. — Нету. Вот покупай, доставай ли и давай заявку. А мы враз поставим.
— Да игде ж их укупишь, родимый? Их и не продают нигде, и пенсия у меня…
— Ты что городишь? Как это нету? — опомнился Егор, морщась от головной боли, обратился к Шурику. — Вчера ж получали!
— Говорю — нету! Иди, бабуля, иди. И вообще, не к нам надо обращаться — вон, мастерам заявку давай!
Ушла бабуля восвояси, а Егор насел на бугра:
— Так как это — нету?
— Ну что ты шумишь, Николаевич? — примирительно забубнил Шурик. — Непонятно, что ли: эти унитазы уже давным-давно распределены. Это ж импорт! Ну что ты на мня, как на врага народа? Я-то причем? Не наше это дело! Подождет твоя бабка еще дня два-три. Поставим ей бэу, когда немецкие ставить будем.
— Кому — немецкие?
— Кому-кому… У Миропольского спроси — через него на них заявки-то шли!.. Да ты что?!
Бедный Шурик отскочил в угол от осатаневшего Егора. Тот, бледный, со сжатыми кулаками, стоял, глубоко и часто дыша. Отдышался. Пошел к Миропольскому.
Начальник выслушал полуистерическую речь своего сантехника спокойно, налил ему воды, предложил закурить.
— Ну что же. Нет проблем. Выделим мы для этой бабки импортный унитаз. Действительно, безобразие… Да, заявки были, но раз такой случай…
— Так ведь не первый случай! Сколько ж можно кричать-то об этом? А если завтра опять такая же бедолага придет?
— Будете призывать меня отдать ей мой унитаз? Эх, Мышкин! К сожалению, наша промышленность и наше снабжение не в силах пока дать нам изобилие. Для этого надо работать, работать, понимаете? И, чем лучше будет трудиться каждый из нас, тем скорее мы избавимся от дефицита во всем. Вот если б каждый работал и болел душой, как вы!.. Кстати, вид у вас не совсем в последнее время. Может, вам нужно отдохнуть, подлечиться? Я пробудирую вопрос с путевками. Сходите в отпуск, отдохнете, тем более, лето начинается… Эх, хорошо летом на природе! А, Георгий Николаевич?..
Глядя прямо в глаза начальнику, Егор пожевал губами, ничего не ответил. Махнул рукой.
Стена.
Резиновая стена.
13.
Егор отвел глаза от стеклянно-красной с золотом вывески. Нет и нет. Идти сюда бессмысленно. Если даже и выслушают его, если примут всерьез его исповедь, — скорее всего, захлопочут о психушке. Георгию не поможешь и этим.
Домой возвращаться не хотелось. Натыкаться, как на стену, на участливый, жалостливый, но непонимающий ларисин взгляд? Самый близкий, самый дорогой человек — и чужой. Вот где горе-то. Все остальные передряги-невзгоды, катаклизмы — что они по сравнению с этим?
Мутно на душе, муторно. Душно.
Головой в омут, в холод придонной воды?
Себе-то, может, и легче. А горе, а хлопоты горькие — снова жене? Нет у него права на это! Нет и нет.
А, если не кривить душой, больше всего пугает, останавливает мысль, что после смерти телесной душа остается жить. Неважно, в каком виде. Важно, что прочным шурупом сидит в Егоре уверенность: остается у души память о жизни прошлой. Все-все помнится ей — как врал, обижал, крал, слабому не помог, перед сильным лебезил или молчал — все-все. А что-то сделать, поправить, изменить — уже нельзя. И такое — навсегда. Ну, и что по сравнению с этим муки пекельные, все эти котлы и сковородки? Такая-то память — любого ада страшней!
Высокие и мрачные мысли бесцеремонно оборвал бодрый голос:
— Земляк! Давай скорей, сколько тебя ждать?!
Тренированный взгляд Егора выхватил и узнал в очереди у «автопоилки» лицо одного из многочисленных клиентов. Ну что ж. Заодно и человеку доставим приятную возможность услугу оказать, отблагодарить.
— Тебе парочку? Держи.
Егор принял мокрые прохладные кружки с золотистым пивом. В очереди шумели, больше для приличия:
— По две-то куда? Потом бы повторил!
— Мы стоим, а он!..
— Да ладно, мужики, мы ж вместе стояли, — так же, для приличия, отбрехивался клиент. — А я смотрю — ты, ну, думаю, денег не берет, водку не пьет, дак хоть от пивка-то не откажется? Да с лещиком копченым, щас достану, ща-ас…
«Значит, нужно ему что-то, — с тянущей тоской подумал Егор, — ишь, лебезит.»
И ошибся! Ничего мужик этот, Степан, не просил, а на прямой и грубый вопрос замахал пустой кружкой:
— Ты что, Егор! Не надо! Просто — тогда сделал все путем, классно сделал, ну и я, это, по-человечности…
У Егора неожиданно защипало в носу, он перхнул и полез за сигаретами. Прикурил, затянулся, — вроде, прошло.
Отдали пустые кружки, в две — повторили, неторопливо и приятно беседуя.
— Мужики… Семь копеек добавьте, а?
Егор обернулся, хотел послать ханыгу, который терся возле бочки и клянчил не на первую уже кружку. Не послал. Ибо стоял перед ним давний-предавний его знакомец Вася Пэс. Был когда-то Вася удачливым и веселым вором, потом завязал, потом запил. К старому не вернулся, да к новому не прибился — забичевал, спился и стал, кем стал — жалким ханыгой с мордой, что кирзовая голяшка грязно-кирпичного цвета, с мутными глазами и вечной щетиной. Не человек, а так… Но это был человек из его прошлого, из его жизни, с ним можно было потолковать о той жизни, можно было потолковать.
— Здорово, Пэс! — неожиданно для себя, Егор протянул ему руку.
— Здоров, здоров, — с недоверием, но жадно схватил его ладонь Васька, — а я гляжу…
— Ладно-ладно, на вот, похмеляйся, — протянул ему рублевку Егор.
— А! Ага, я щас, я мигом!
— Ну, пора мне, — с некоторым удивлением и даже обидой сказал Степан и удалился, по рот-фронтовски вскинув кулак к правому плечу. Тут же, как черт из коробочки, выскочил из очереди Пэс с двумя кружками.
Егор отказался, и Васька залпом опорожнил одну кружку, опорожнил вторую и, пытаясь быть джентльменом, снова завел было:
— А я гляжу…
— Да ладно тебе, Вася. Ты ж меня первый раз видишь. А я тебя уже лет двенадцать знаю. Да и ты меня…
— Во-во! Я ж и говорю!..
Тут опять Егор вспомнил («Что-то с памятью моей стало…»), что Лариса-то у матери, пусто в квартире. Перспектива опять остаться одному с мыслями неотвязными была еще гнуснее нынешней васькиной рожи.
— Слушай, а как ты насчет водки?
— Дык сколь время-то уже?
— Восьмой час.
— Э-эх, опоздали.
— Ладно, пошли в «Веснушку», тут рядом.
Пэс опустил глаза. Не из скромности — наряд свой обозревал, прикидывая, подобает ли, пропустят ли в таком наряде в кафе. Решил, что не пропустят. И затосковал.
Но Егор уверенно привел его к «Веснушке», бросил: «подожди», прошел, перетолковал с официанткой и через минут десять вернулся к терпеливо ждущему Пэсу.
— Коньяк только.
Ни о чем не спрашивая, Васька покорно семенил рядом, кадык его, время от времени, судорожно прыгал вверх-вниз.
Когда вошли в подъезд егорова дома, Васька потянул нежданного благодетеля за рукав:
— Тара у меня есть, — откуда-то от пуза достал пивную кружку, — а занюхать нету.
— Ты что, Васька, мы ж ко мне идем.
— А не нагонят?
— Некому. Жена уехала.
— А-а, — облегченно вздохнул Васька, не до конца веря в такую везуху.
Они расположились на кухне. Пиво уже давало себя знать отвыкшему от таких доз Егору, Ваське же, на старые дрожжи, и подавно.
Через полчаса, оба, изрядно окосевшие, пренебрегая закуской, беспрестанно смолили сигареты. Обалдевший Пэс поддакивал этому странному мужику, который утверждал, что он — Егор Михайлов, Гошка Метр, и почему-то знал довольно много про Метра и про Ваську, про его прошлое. Потом этот мужик ахинею понес, торопливо, взахлеб: будто он, Метр, сейчас на зоне, но тот, на зоне, не Метр, не он, а он — тут. Вконец обалдевший Васька соглашался с чем угодно, алчно ожидая, когда тот перестанет толкать фуфло и плеснет еще горячительной влаги.
И вот эта-то идиллия была неожиданно и грубо нарушена резким голосом Ларисы, срывающимся на визг:
— Жена, значит, только из дому, а ты и рад, уже и бичей в дом тащишь! Пьянь! Алкоголик! За что же мне это! Я для него наизнанку… наизнанку! А он!.. А ну, ты, давай отсюда, немедленно!
— Щас, щас, — боком-боком, косясь на разъяренную бабу, Пэс выскользнул за дверь.
Лариса, швырнув в раковину хряснувшую стопку с коньяком, зарыдала и бросилась в комнату.
Мгновенно и безнадежно трезвея, Егор убрал со стола, открыл фортку, в которую сразу густо потянулся табачный дым. Он чувствовал: еще минута, и он сорвется — заорет, ударит.
Уходя, глянул в комнату. Лариса лежала лицом к стене, всхлипывала, тихонько подвывая. Жалостью защемило сердце, жалость вытесняла собственную боль, злость на непонимание. Вытесняла, да не вытеснила, и Егор торопливо вышел из дому. Он бесцельно бродил по улицам. Бродил долго.
14.
Как ни пытался я быть безжалостно-равнодушным, оставляя подлинного Мышкина на произвол судьбы, как ни пытался не вспоминать о нем, а, видимо, своеволие литературных героев выше авторских волеизъявлений. Да и совесть не только Егору житья не давала — нет-нет, да и меня тревожила: как там Георгий, что с ним? Каково ему?..
…
А было ему очень и очень несладко, хоть и не сказать, чтоб вовсе уж невыносимо было. Вопреки его страхам и опасениям, которые пришли на смену тупому равнодушию. Вопреки им, и в следственном изоляторе, и в пересылке, и на этапе, и потом, на зоне, никто не угнетал и не унижал его. Он, конечно, понимал, что это оболочка его так надежно защищает ободранную душу, побаивался, как бы душа не выказала себя, как бы, по незнанию своему, не выдал он несоответствия души телу. Но все промахи мелкие и несоответствия принимались, как должное, мало того, зеки, знавшие Егора, видя, что он не признает их, порешили, что Метр, башка, ведет свою игру, косит под дурака, и поддерживали эту игру всячески. Вот и жил он сам по себе, соблюдая режим, не отлынивая от работы, не угождая начальству, оцепенело отбывая срок. И лагерное начальство, вопреки всем медицинским выводам, пришло к выводу собственному: у Михайлова крыша поехала. Но, поскольку зла и беспокойства от этого никому не было, относилось начальство к нему настолько снисходительно, насколько могло. И тянулись жорины дни — не черные и не светлые — серые, однообразные. И многовато было их впереди. Ну, а после, после срока — что? Темный лес. На четвертом десятке лет жизнь заново начинать — и трудновато, и поздновато. А память? Память о прошлом — ее-то куда денешь? Все уже готов был принять Георгий с поистине христианским смирением, если б не память, не мысли о невозвратной жизни — ясной, тихой, хорошей. Да если б не весна в самом своем разгаре. И по весне, по цветущему маю, ударился Георгий в бега.
Не был это запланированный, хорошо обдуманный побег: при первой возможности толкнуло что-то в сердце, а показалось — прямо в спину — и побежал. А бежать-то, собственно, ему и некуда было. И понимал он, что скоро, очень скоро поймают его, вернут и добавят. Но подспудная, задавленная жажда свободы! Но неодолимое желание хоть на минутку, хоть одним глазком увидеть, как он там, Егор Михайлов, в его шкуре, в его жизни — он-то хоть счастлив? И бежал Георгий, и рисковал, и хитрил, и пробирался; как тот пресловутый мотылек на свечку, летел, летел на безмерно опасный свет окна, один-единственный в мире, к своему дому, к тому месту, где была его жизнь, к месту, без которого его не было…
Удача ему сопутствовала. И в начале лета, в очень поздний час подошел он к обычной панельной пятиэтажке на улице Пихтовой. На втором этаже светилось в ночи окно. Заглянуть, увидеть, а там… Пусть будет, как будет. Только этот миг…
…
Заполночь уже, на свинцовых ногах, возвращался Егор домой. Куда ж еще?
В песочнице на детской площадке сидело несколько парней. Было им лет по шестнадцать-семнадцать, а может, и по четырнадцать — трудно определить возраст этих акселератов. Один, прильнув к гитаре, наигрывал негромко и так же негромко пел. Остальные внимательно слушали, забыв о сигаретах, дымящихся в их пальцах или губах. Егор приостановился. Послушать было что. Он присел поодаль от ребят, ссутулился, уронив ладони между колен, вбирая в себя слова и незамысловатую мелодию.
Я уже не вернусь в этот город, ветрами истерзанный,
в этой кассе закрыт безвозвратно мой счет лицевой.
Вдалеке от него все былые победы одержаны,
все триумфы прошли без участия улиц его.
Как я весело жил! Как знаком был с удачей и славою,
как азы позабыл, те, которым учил он меня,
как, в корысти своей, не делился с ним силой и
слабостью,
как обратный билет на билет в «никогда» обменял…
…Что же это стряслось, что случилось, скажите,
пожалуйста,
что не то, что любви — что к нему даже жалости нет, —
словно в дальней дали полыхает чужое пожарище,
только отсвет его на моей гладко-белой стене…
«Какие победы, какие триумфы? И при чем здесь город? Не знаю. Но это про меня, про меня, потому так щемит и в сердце и в переносице, и дыханье перехватывает. Ах, что делает этот пацан! Как больно и как хорошо!..»
А пацан вполголоса изливал свою душу и надрывал его, Егорову:
…Как напрасны уже вспышки памяти дымного пороха!
Сон уходит, как жизнь, и гитара молчит до утра,
но играют всю ночь на стене беспощадные сполохи,
белый флаг занавески упрямо срывают ветра.
Гитарист умолк, неторопливо достал сигарету, к ней, зашипев, потянулись огоньки двух зажигалок. В их свете Егор разглядел тонкое лицо с большими печальными глазами. Поднявшись, он шагнул к парню, торопливо и хрипло сказал:
— Слышь, друг, ты сыграй, спой еще раз эту песню, а?
Парень вскинул свои глазищи, оглядел Егора и, лениво выпуская дым, ответил спокойно и почти доброжелательно:
— Шел бы ты домой, баиньки.
Недоуменно и немного обиженно Егор повторил:
— Нет, ты пойми… Спой, уж больно она…
— Вали отсюда, понял! — неожиданно резким и злым голосом крикнул один из слушателей, вырастая справа от Егора.
— Да чего ты дергаешься? — все так же недоуменно спросил Егор. — Я…
Удар слева в лицо прервал и ослепил его, второй, ногой в грудь, заставил сложиться вдвое, третий, в подбородок, разогнул и опрокинул навзничь. Егор мгновенно перевернулся и сжался, закрывая руками лицо, локтями — ребра, но удары, точные и крепкие, подняться не давали.
— Что же вы… за что же… сволочи… — хрипел Егор, слыша над собой такое же хриплое дыхание и деловитый, без злобы, мат.
Должно быть, на некоторое время он отключился. Тупо поднявшись, все еще прикрываясь руками, скорее понял, чем увидел, что рядом никого. Отряхнул с себя песок и окурки, присел на барьерчик песочницы. Не боль от ушибов — обида щипала глаза. «Ну зачем, за что?.. Такая песня… И ведь пел как! Ладно, все! Домой, баиньки!»
На столе, накрытый салфеткой, стыл ужин. Лариса мирно посапывала в комнате. Слава богу, объяснения откладываются до утра. В полумраке Егор разглядывал ее спокойное красивое лицо. Такая родная и такая чужая. Разбудить бы ее сейчас, спрятать лицо на ее груди, пожаловаться: «Плохо мне, тяжко мне, брат!» Не надо, нельзя. Будут недоуменные, раздражительные расспросы и практические советы. Не надо!
Долго сидел на кухне, положив набухшие венами кулаки на пластик стола. Дурак! Сявка! Рассопливился. Отпинали, как последнего фрайера. Не смог даже разок звездануть кому-нибудь. Все б не так обидно было. Усмехнулся. Да не в этом дело-то. Это уж все одно к одному. Но, если и дальше будет так худо, все будет так худо — как жить-то? Чем жить?
Чавкнул дверцей холодильник. Успокоительно-прохладная бутылка с остатками коньяка плотно легла в ладонь. Егор поразглядывал ее, сунул обратно. Не поможет.
Отворил окно, за которым крапал тихий предрассветный дождичек, протянул руки этой серой, влажной тишине, выдохнул замучено:
— Гос-споди!..
В ладони его ответно легли ладони, крепко сжали. Не осознавая еще, что происходит, что делает он, Егор потянул к себе эти ладони, и, когда в проеме окна выросла фигура того единственного родного человека, вскочил на подоконник, крепко обнялся с долгожданным пришельцем. И они застыли на узком подоконнике, малоприспособленном для объятий, крепко прижавшись друг к другу, такую неразделимость и родство ощущая, что умереть впору.
— Вот, значит, как! Я этих алкашей в дверь гоню, так он их в окно тащит!..
Голос Ларисы еще звенел благородным негодованием, когда оба Егора выпали за окно.
Не разжимая братских объятий.
Братск, 1991 г.
Биография автора: ОРОЧОН (КИСЕЛЕВ) ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Источник:
Данный материал доступен в соответствии с лицензией
ВНИМАНИЕ! Комментарии читателей сайта являются мнениями лиц их написавших, и могут не совпадать с мнением редакции. Редакция оставляет за собой право удалять любые комментарии с сайта или редактировать их в любой момент. Запрещено публиковать комментарии содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического характера, или нарушающие иные требования законодательства РФ. Нажатие кнопки «Оставить комментарий» означает что вы принимаете эти условия и обязуетесь их выполнять.